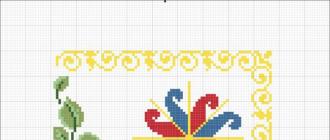Ту-16 (вид спереди)
Новую эпоху в российской дальней авиации открыл самолет Ту-16 – первый советский дальний бомбардировщик с ТРД и второй в мире серийный самолет этого класса.
Работы по проектированию реактивной машины, предназначенной для замены поршневого самолета Ту-4, были развернуты в ОКБ А.Н. Туполева в 1948 г. Первоначально они носили инициативный характер и опирались на предварительные теоретические исследования, проведенные в ОКБ и ЦАГИ, по формированию облика тяжелых боевых самолетов с ТРД и стреловидным крылом большого удлинения (следует заметить, что эти работы, в отличие от аэродинамических центров США и Великобритании, велись ЦАГИ самостоятельно, без использования трофейных германских материалов, которых к моменту начала работ по созданию бомбардировщика еще не было в распоряжении советских специалистов).
В начале 1948 г. в бригаде проектов туполевской фирмы завершили сугубо прикладную работу «Исследование летных характеристик тяжелых реактивных самолетов со стреловидным крылом», в которой рассматривались возможные варианты решения задачи создания реактивного бомбардировщика со скоростью, приближающейся к 1000 км/ч, и бомбовой нагрузкой 6000 кг, имеющего вооружение и экипаж как у самолета Ту-4.
Следующим шагом стала работа ОКБ по исследованию влияния площади и удлинения крыла на летные характеристики самолета со стреловидным крылом, завершенная в феврале 1949 г. В ней рассматривались гипотетические проекты тяжелых самолетов взлетной массой до 35 т, площадью крыла в диапазоне от 60 до 120 м2 и различными значениями удлинения крыла. Изучалось влияние этих параметров и их сочетаний на дальность полета, длину разбега, скоростные и другие летные характеристики самолета. Параллельно шли практические работы по исследованию стреловидных крыльев применительно к тяжелым реактивным самолетам.

Схема самолета Ту-16
В короткий срок в ОКБ был создан проект экспериментального бомбардировщика – самолет «82» с двумя реактивными двигателями РД-45Ф или ВК-1. Самолет предназначался для получения больших, близких к звуковым, скоростей полета, соответствующих М=0,9-0,95.
За основу была взята конструкция самолета «73» – проекта бомбардировщика с прямым крылом, прорабатывавшегося в ОКБ А.Н. Туполева. Основное отличие было в применении стреловидного крыла с углом стреловидности 34° 18". Крыло набиралось из симметричных профилей типа 12-0-35 по центроплану и профилей СР-1-12 по внешней части крыла. Конструктивно оно имело двухлонжеронную кессонную конструкцию.
Горизонтальное и вертикальное оперения также были стреловидными (угол по передней кромке – 40°).
В проекте «82» предполагалось использование и другого новшества того времени – гидроусилителей в каналах управления самолетом. Однако в ходе постройки опытного экземпляра, ввиду низкой эксплуатационной надежности, от этих устройств отказались, оставив лишь жесткое механическое управление.
Проект самолета «82» был рассмотрен заказчиком – ВВС, после чего в июле 1948 г. вышло постановление Совета Министров СССР о постройке экспериментального реактивного бомбардировщика под обозначением Ту-22 (второй самолет ОКБ А.Н. Туполева с этим обозначением; ранее, в 1947 г., велись работы по проекту высотного разведчика Ту-22 – самолету «74»).
Постройка нового бомбардировщика осуществлялась «ударными» темпами, и уже 24 марта 1949 г. летчик-испытатель А.Д. Перелет выполнил на опытном самолете «82» первый испытательный полет.
В ходе испытаний машины была достигнута максимальная скорость 934 км/ч, что на 20% превышало скорость бомбардировщика Ту-14 («81»), также оснащенного ТРД, но имевшего прямое крыло и проходившего в этот период заводские и государственные испытания.
Самолет «82» был чисто экспериментальной машиной, на нем отсутствовала панорамно-прицельная РЛС, слабо было оборонительное стрелково-пушечное вооружение, поэтому, основываясь на работах по «82», ОКБ проработало проект бомбардировщика «83» – с усиленным вооружением и радиолокационным прицелом ПС- НБ или аппаратурой точного наведения на цель «РМ-С», установленной вместо радара. Самолет «83» в бомбардировочном варианте к постройке и серийному производству принят не был, так как с таким же двигателем ВК-1, но с прямым крылом, в массовую серию был запущен фронтовой бомбардировщик Ил-28, тактико-технические характеристики которого вполне устраивали ВВС.
На базе самолета «83» в конце 40-х годов прорабатывался истребительный вариант самолета. Предполагалось создать самолет-перехватчик с неподвижным мощным пушечным вооружением, большой дальностью и продолжительностью полета. Однако командование авиации ПВО в то время не оценило этот проект, хотя через несколько лет само вернулось к идее дальнего тяжелого истребителя-перехватчика, но уже со сверхзвуковой скоростью полета и ракетным вооружением (Лa-250, Ту-128).
В период проектирования самолета «82» в ОКБ в общих чертах прорабатывался проект самолета «486», в котором предполагалось применение новой компоновки фюзеляжа с тремя спаренными пушечными оборонительными установками, а силовая установка, в отличие от машины «82», должна была состоять из двух ТРД АМ-ТКРД-02 со статической тягой 4000 кгс. При крыле той же стреловидности самолет «486» должен был развивать максимальную скорость 1020 км/ч. Расчетная дальность полета этого 32-тонного самолета со 1000 кг бомб достигала 3500-4000 км. Этот проект уже можно было рассматривать как переходный от фронтового бомбардировщика к дальнему бомбардировщику с высокой дозвуковой скоростью.
В 1949-1951 гг. в ОКБ прорабатывались проекты дальних реактивных бомбардировщиков «86» и «87», которые по компоновке повторяли самолет «82», но имели значительно большие размеры и массу. На них предполагалось установить два двигателя конструкции А. Микулина (АМ-02 с тягой 4780 кгс) или А. Люльки (ТР-3 с тягой 4600 кгс). Скорость каждого бомбардировщика должна была достигать 950-1000 км/ч, дальность – до 4000 км, а бомбовая нагрузка – от 2000 до 6000 кг. Их взлетная масса находилась в пределах 30- 40 т. В работе находился также проект самолета «491» – модернизация самолетов «86» и «87», направленная на дальнейшее увеличение скорости полета. В этом проекте предусматривалось крыло с углом стреловидности по передней кромке 45°. Расчетная максимальная скорость этого самолета на высоте 10 000 м соответствовала М=0,98, т. е. машина могла рассматриваться как трансзвуковая.
Изыскания по этим темам в конечном итоге вылились в новый проект с шифром «88». К этому времени под руководством А. Микулина был создан ТРД типа АМ- 3 с тягой 8750 кгс. Однако облик самолета сложился не сразу: сложную задачу определения размеров самолета, его аэродинамической и конструктивной компоновки удалось решить путем проведения большого числа параметрических исследований, модельных экспериментов и натурных испытаний, выполненных совместно с ЦАГИ.
В 1950 г. руководством ОКБ перед бригадой проектов была поставлена задача выбрать такие значения площади крыла, массы самолета и тяги двигателей, при которых самолет имел бы следующие летные и тактические данные:
1. Бомбовая нагрузка:
нормальная – 6000 кг
максимальная – 12 000 кг
2. Вооружение – по проекту самолета «86»
3. Экипаж – шесть человек
4. Максимальная скорость на уровне земли – 950 км/ч
5. Практический потолок – 12 000-13 000 м
6. Дальность полета с нормальной бомбовой нагрузкой – 7500 км
7. Разбег без ускорителей – 1800 м
8. Разбег с ускорителем – 1000 м
9. Пробег – 900 м
10. Время набора 10 000 м – 23 мин
Работы по проекту получили по ОКБ шифр «494» (четвертый проект 1949 г.). Именно с этого проекта начинается та прямая, которая и привела к созданию опытного самолета «88», а затем серийного Ту-16.
В основном заявленным данным, кроме дальности полета и бомбовой нагрузки, удовлетворил самолет «86», поэтому первоначально поиски по проекту «494» опирались на материалы, полученные при проектировании «86»-й машины, при сохранении общих компоновочных решений этого самолета.
Рассматривались следующие варианты силовой установки:
– два двигателя АМРД-03 со статической тягой по 8200 кгс;
– четыре двигателя ТР-ЗА – 5000 кгс;
– четыре двухконтурных двигателя ТР-5 – 5000 кгс.
Все варианты проекта «494» были геометрически подобны исходному самолету «86». Крыло имело угол стреловидности 36°. В проекте предусматривалось несколько вариантов размещения силовой установки и основного шасси. Для двигателей АМРД-03 предлагалось установить в одной гондоле с шасси или подвесить на подкрыльевых пилонах, а шасси расположить в отдельных гондолах (в дальнейшем такая компоновка была применена на целой серии туполевских самолетов).
Анализ различных вариантов самолета по проекту «494» показал, что вариант с двумя АМРД-03 имеет лучшие перспективы, чем остальные, за счет меньшего сопротивления и массы силовой установки.
Заданные летно-тактические характеристики могли быть достигнуты при следующих минимальных параметрах самолета:
– взлетная масса 70-80 т;
– площадь крыла 150-170 м2 ;
– суммарная тяга двигателей 14 000-16 000 кгс.
В июне 1950 г. выходит первое постановление Совета Министров СССР, обязующее ОКБ А.Н. Туполева спроектировать и построить опытный дальний бомбардировщик – самолет «88» с двумя двигателями АЛ-5 (Тр-5). В постановлении оговаривалась также возможность установки более мощных АМ-03. Однако в тот момент руководство страны смотрело на АМ-03 как на рискованную затею, а дальний бомбардировщик нужен был срочно, поэтому первоначально ставку делали на AJI-5 как имеющий большую степень готовности, тем более такие же двигатели предназначались и для конкурента туполевской машины – самолета Ил-46. Но к августу 1951 г. двигатели АМ-03 уже стали реальностью, поэтому все усилия ОКБ были переориентированы на двухдвигательный вариант с микулинским АМ-03, развивавшим тягу 8000 кгс (впрочем, как резервный вариант, на случай неудачи с двигателем АМ-3, некоторое время прорабатывался и проект «90-88» под четыре ТРД ТР-ЗФ с тягой около 5000 кгс – два двигателя в корне крыла и два – под крылом).
В 1950-51 гг. проводится полная перекомпоновка самолета, в этой работе активное участие принимали сам А.Н. Туполев и его сын Л.A. Туполев, работавший в то время в бригаде проектов.
После «эволюционного» этапа работ по проекту «494», в ходе которого развивались идеи самолета «86», был сделан резкий качественный скачок в аэродинамическом совершенстве будущего самолета за счет особой компоновки центральной части планера, которая тактически соответствовала конструктивному решению, вытекающему из «правила площадей», активное внедрение которого в зарубежную авиационную практику началось лишь через несколько лет. Такая компоновка позволяла решить проблему интерференции в стыке крыла с фюзеляжем. Кроме того, «пограничное» расположение двигателей между крылом и фюзеляжем позволило создать так называемый «активный зализ»: реактивная струя двигателей подсасывала воздух, обтекающий и крыло, и фюзеляж, и тем самым улучшалось обтекание в этой напряженной аэродинамической зоне самолета.
Для самолета «88» было выбрано крыло переменной стреловидности: по средней части крыла – 37° и по объемной части крыла 35°, что способствовало лучшей работе элеронов и закрылков.
Крыло было спроектировано по двухлонжеронной схеме, причем стенки лонжеронов, верхняя и нижняя панели крыла между лонжеронами, образовывали мощный основной силовой элемент крыла – кессон. Такая схема была развитием схемы крыла самолета Ту-2, но кессон в этом случае был большим по своим относительным размерам, что сделало ненужным третий лонжерон. Мощный жесткий лонжерон принципиально отличал конструктивную схему крыла «88» от гибкого крыла американского бомбардировщика В-47.
Окончательно все компоновочные решения по новому самолету отрабатывались в бригаде общих видов, которой руководил С.М. Егер. К конструктивным и компоновочным особенностям проектируемого самолета, полученным в ходе работ и определившим лицо туполевских машин на следующие 5-10 лет, следует отнести:
– создание большого грузового (бомбового) отсека в фюзеляже за задним лонжероном центроплана, благодаря чему сбрасываемые грузы располагались близко к центру масс самолета, а сам грузоотсек не нарушал силовой схемы крыла;
– размещение экипажа в двух герметических кабинах с обеспечением катапультирования всех членов экипажа. В задней (кормовой) герметической кабине, в отличие от всех других самолетов, размещались два стрелка, что обеспечивало их лучшее взаимодействие при обороне;
– создание комплекса мощного оборонительного стрелково-пушечного вооружения, состоящего из трех подвижных пушечных установок, четырех оптических прицельных постов с дистанционным управлением и автоматического радиолокационного прицела;
– оригинальную схему шасси с двумя четырехколесными тележками, поворачивающимися при уборке на 180°. Такая схема обеспечивала высокую проходимость самолета, как по бетонным, так и по грунтовым и снежным аэродромам. В передней стойке шасси впервые в СССР было применено спаривание колес на одну ось;
– применение тормозного парашюта в качестве аварийного средства при посадке самолета.
Работы по проектированию и постройке самолета «88» осуществлялись в весьма сжатые сроки, «на все про все» отводилось 1-1,5 года. Макет бомбардировщика начали строить еще летом 1950 г., он был представлен заказчику в апреле 1951 г., одновременно с эскизным проектом. Тогда же, в апреле, началось производство самолета. Одновременно в сборке были два планера: один для летных испытаний, другой – для статических.
В конце 1951 г. первый опытный экземпляр бомбардировщика «88», получивший название Ту-16, был передан на летную базу для испытания и доводки. 27 апреля 1952 г. экипаж летчика-испытателя Н. Рыбко поднял Ту-16 в воздух, а в декабре 1952 г. уже было принято решение о запуске самолета в серийное производство.
Полученная при испытаниях скорость превышала указанную в техническом задании. Однако машина не достигла нужной дальности: конструкция Ту-16 была явно перетяжелена. А.Н. Туполев и ведущий конструктор самолета Д.С. Марков организовали в ОКБ настоящую борьбу за снижение веса. Счет шел на килограммы и даже граммы. Были облегчены все несиловые элементы конструкции, кроме того, анализ особенностей тактического применения бомбардировщика, предназначенного в первую очередь для действий на больших высотах, позволил установить ограничения на максимальную скорость для малых и средних высот, что несколько снизило требования к прочности конструкции и также позволило уменьшить массу планера. В результате получилась в значительной степени новая конструкция, имеющая массу, на 5500 кг меньшую массы планера прототипа.
А в это время на Казанском авиационном заводе уже создавалась оснастка для серийного самолета на базе прототипа. Поэтому, когда о работах по новому, облегченному варианту бомбардировщика стало известно в Министерстве авиационной промышленноcти, Д.С. Маркову объявили выговор, который впоследствии так и не был снят, несмотря на то что второй опытный экземпляр «88» в апреле 1953 г. превысил заданную дальность полета.

Хвостовая часть самолета Ту-16
Серийное производство Ту-16 начали в Казани в 1953 г., а год спустя и на Куйбышевском авиазаводе. Тем временем в ОКБ велись работы над различными модификациями машины, а двигатель АМ-3 заменили более мощным РД-ЗМ (2 х 9520 кгс).
Первые серийные самолеты стали поступать в строевые части в начале 1954 г., а 1 мая того же года девятка Ту-16 прошла над Красной площадью. В НАТО самолет получил кодовое наименование «Бэджер» («Барсук»).
Вслед за бомбардировочным вариантом в серийное производство был запущен носитель ядерного Ту-16А. В августе 1954 г. поступил на испытания опытный ракетоносец Ту-16КС, предназначенный для ударов по кораблям противника. Под его крылом подвешивались две управляемые крылатые ракеты типа КС-1. Весь комплекс управления вместе со станцией «Кобальт-М» был полностью взят с самолета Ту-4К и размещался вместе с оператором в грузоотсеке. Радиус действия Ту-16КС составлял 1800 км, дальность пуска КС-1 – 90 км.
Ту-16 начал быстро заменять в строевых частях дальние бомбардировщики Ту-4, став носителем ядерного и обычного оружия на средних (или, как теперь принято говорить, евростратегических) дальностях. С середины 50-х серийно строился и Ту-16Т – торпедоносец, назначение которого – торпедные атаки крупных морских целей и постановка минных заграждений. Впоследствии (с 1965 г.) все самолеты Ту-16 были переоборудованы в спасательные Ту-16С с катером «Фрегат» в бомбардировочном отсеке. «Фрегат» сбрасывался в районе морской аварии и выводился к пострадавшим с помощью системы радиоуправления. Радиус действия Ту-16С достигал 2000 км.
Для повышения дальности полета Ту-16 спроектировали систему крыльевой дозаправки в воздухе, несколько отличавшуюся от ранее отработанной на Ту-4. В 1955 г. вышли на испытания опытные экземпляры топливозаправщика и заправляемого самолета. После принятия системы на вооружение в заправщики, которые получили наименование Ту-16 «Заправщик» или Ту-163, переоснащались обычные серийные машины. Благодаря тому, что специальное оборудование и дополнительный топливный бак легко снимались, заправщики при необходимости снова могли выполнять задачи бомбардировщика.

Бомбардировщик Ту-16
В 1955 г. начались испытания разведчика Ту-16Р (проект «92»), который затем строился в двух вариантах – для дневной и ночной аэрофотосъемки. В том же году приступили к работам по созданию авиационного ракетного комплекса К-10, включавшего в себя самолет-носитель Ту-16К-10, крылатую ракету К-10С и систему наведения на базе бортовой РЛС «ЕН». При этом в носовой части фюзеляжа самолета устанавливалась антенна станции обнаружения и сопровождения цели, под кабиной экипажа – антенна наведения КР, а в бомбоотсеке – ее балочный держатель, гермокабина оператора системы «ЕН» и дополнительный бак топливопитания ракеты. Ракета К-10С находилась в полуутопленном положении, а перед запуском двигателя и отцепкой опускалась вниз. Отсек подвески после отцепки ракеты закрывался створками.
Опытный образец Ту-16К-10 был выпущен в 1958 г., а спустя год началось его серийное производство. Летом 1961 г. самолет продемонстрировали на воздушном празднике в Тушино. В этот же период были удачно проведены пуски К-10С на различных флотах. В октябре 1961 года комплекс приняли на вооружение.
В конце 1950-х годов на Ту-16 начали отрабатывать РЛС типа «Рубин-1». Одновременно в ОКБ А. Микояна и А. Березняка велись работы по созданию новых КР класса «воздух-поверхность». В результате появился воздушный ударный комплекс К-11-16, принятый на вооружение в 1962 году. Самолеты Ту-16К-11-16, переоборудованные из ранее построенных Ту-16, Ту-16Л, Ту-16КС, могли нести по две ракеты типа КСР-2 (К-16) или КСР-11 (К-11) на крыльевых балочных держателях. В 1962 г. приступили к разработке нового комплекса – К-26 – на базе крылатой ракеты КСР-5. Со второй половины 60-х годов он начал поступать на вооружение.
Особенностью К-11-16 и К-26 было то, что их самолеты-носители могли использоваться и без ракетного вооружения, то есть как обычные бомбардировщики. Так же удалось расширить боевые возможности комплекса К-10. На крыльевые пилоны модернизированного самолета-носителя Ту- 16К-10-26 подвешивались две ракеты КСР-5 в дополнение к подфюзеляжной подвеске УР К-10С. Вместо КСР-5 можно было использовать ракеты КСР-2 и др.
С 1963 г. часть бомбардировщиков Ту-16 переоборудовали в заправщики Ту-16Н, предназначенные для дозаправки сверхзвуковых Ту-22 по системе «шланг – конус».
Большое развитие на базе Ту-16 получили самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чаще называемые постановщиками помех. В середине 50-х годов стали серийно строить самолеты Ту-16П и Ту-16 «Ёлка». Впоследствии системами РЭБ оснащали все ударные и разведывательные варианты Ту-16.
В конце 60-х годов часть Ту-16К-10 переоборудовали в морские разведчики Ту-16РМ, а несколько бомбардировщиков, по заданию командования ПВО страны – в носители ракет-мишеней (Ту-16КРМ). Машины, отслужившие свой срок, использовали как радиоуправляемые самолеты-мишени (М-16).
Самолеты Ту-16 применяли и в качестве летающих лабораторий для доводки двигателей АЛ-7Ф-1, ВД-7 и др. С этой целью в зоне бомбоотсека устанавливался подвижный механизм для подвески опытного двигателя, который частично утапливался при взлете и посадке, а после набора высоты выдвигался. Подобные системы на Ty-16JIJI использовались не только для доводок ТРД, но и для исследования аэродинамических свойств различных типов самолетов. Так, на одной из летающих лабораторий отрабатывали велосипедную схему шасси.
В конце 70-х годов была создана лаборатория – разведчик погоды Ту-16 «Циклон». Самолет был оборудован также подвесными контейнерами для распыления химических реагентов, рассеивающих облака.
В гражданской авиации Ту-16 начали применять еще в конце 50-х годов. Несколько машин (они имели необычное название Ту-104Г или Ту-16Г) использовались для срочной перевозки почты и являлись как бы грузовой модификацией бомбардировщика.
По своим характеристикам и компоновке Ту-16 оказался настолько удачным, что это позволило без особых проблем создать на его основе первый советский многоместный реактивный авиалайнер Ту-104. 17 июля 1955 г. летчик-испытатель Ю. Алашеев поднял в воздух опытный экземпляр Ту-104, а со следующего года началось серийное производство машины на Харьковском авиазаводе.
Ту-16 – необычное явление не только в советском, но и в мировом самолетостроении. Пожалуй, только американский бомбардировщик В-52 и отечественный Ту-95 могут сравниться с ним по долголетию. В течение 40 лет было создано около 50 модификаций Ту-16. Многие элементы его конструкции стали классическими для тяжелых боевых машин. Ту-16 послужил базой для отработки новых отечественных авиационных материалов, в частности легких высокопрочных сплавов, средств защиты от коррозии, а также для создания целого класса советских крылатых ракет и авиационных ударных комплексов. Хорошей школой стал Ту-16 и для военных летчиков. Многие из них затем легко осваивали более современные ракетоносцы, а уходя из ВВС – пассажирские лайнеры, построенные на базе самолета Ту-16 (в частности, бывший главнокомандующий российскими ВВС П.С. Дейнекин после массового сокращения советской военной авиации в начале 1960-х гг. некоторое время летал командиром Ту-104 на международных линиях Аэрофлота).
Серийный выпуск Ту-16 прекращен в 1962 г. До 1993 г. самолеты этого типа состояли на вооружении ВВС и ВМФ России.
С 1958 г. начались поставки самолета Ту-16 в Китай, одновременно с помощью советских специалистов в этой стране по освоению серийного производства бомбардировщиков, получивших обозначение Н-6. В 1960-х годах Ту-16 поставлялись также ВВС Египта и Ирака.
КОНСТРУКЦИЯ. Дальний бомбардировщик Ту-16 предназначен для нанесения мощных бомбовых ударов по стратегическим объектам противника. Он выполнен по нормальной аэродинамической схеме со среднерасположенным стреловидным крылом, а также стреловидным оперением. По технологическим и эксплуатационным соображениям крыло, фюзеляж и оперение планера конструктивно выполнено в виде отдельных стыкуемых элементов и агрегатов.
Конструкция планера выполнена из дюралюминия Д-16Т и его модификаций, алюминиевых сплавов АК6 и АК-8, высокопрочного сплава В-95 и др. материалов и сплавов.
Фюзеляж самолета полумонококовой конструкции, с гладкой работающей обшивкой, подкрепленной набором шпангоутов и стрингеров из прессованных и гнутых профилей, представляет собой обтекаемое сигарообразное тело круглого сечения, которое в отдельных местах имеет поджатие. Он состоит из почти самостоятельных отсеков: носового фонаря Ф-1, герметической кабины Ф-2, переднего отсека фюзеляжа Ф-3, хвостового отсека фюзеляжа с бомбовым отсеком Ф-4, задней герметичной кабины.
В передней герметичной кабине размещены:
– штурман, ведущий навигацию самолета и бомбометание;
– левый лётчик, командир корабля;
– правый лётчик;
– штурман-оператор, ведущий работу по управлению и техническому обслуживанию радиолокационного бомбардировочного прицела РБП-4 «Рубидий» ММ-И и управляющий огнем верхней пушечной установки.
В задней герметической кабине размещены:
– стрелок-радист, обеспечивающий связь с землей и управляющий огнем нижней пушечной установки;
– кормовой стрелок, управляющий огнем кормовой пушечной установки и радиолокационной прицельной станцией ПРС-1 «Аргон-1».
Вход в переднюю кабину обеспечивается через нижний люк под сиденьем штурмана-оператора, а в заднюю кабину – через нижний люк под сиденьем кормового стрелка. Для аварийного покидания самолета имеются аварийные люки со сбрасываемыми крышками: для левого и правого лётчиков сверху фюзеляжа, а для остальных членов экипажа – снизу.
Экипаж самолета защищен от огня истребителей противника и от осколков снарядов зенитной артиллерии броней, состоящей из плит, выполненных из материалов АПБА-1, Ст.КВК-2/5ц, КВК-2, и бронестекол.
Крыло стреловидное (35° по линии фокусов, по передней кромке стреловидность переменная). Поперечное V крыла в плоскости хорд -3°. Конструкция крыла – двухлонжеронная, его средняя часть (кессон) набрана из панелей с толстой обшивкой, усиленной стрингерами. От борта фюзеляжа до нервюры № 12 внутри кессона размещены топливные баки. Носок крыла съемный.

Дозаправка в воздухе самолета Ту-16
Крыло имеет два разъема: по борту фюзеляжа и по нервюре № 7. По борту фюзеляжа стоит симметричный профиль ЦАГИ НР-С- 10С-9 относительной толщиной 15,7% и на конце крыла – профиль СР-11-12 – 12%.
Задняя часть крыла на всем протяжении занята закрылками и элеронами. Закрылки щелевые, выдвигающиеся назад. Элероны имеют внутреннюю аэродинамическую компенсацию.
Хвостовое оперение – свободнонесущее, однокилевое, со стреловидностью по линии фокусов – 42°. Профиль горизонтального и вертикального оперения симметричный. Стабилизатор и киль двухлонжеронной конструкции, рули высоты и направления – однолонжеронной.
Шасси самолета выполнено по трехопорной схеме. Основные стойки размещены на первой объемной части крыла и убираются в обтекатели (гондолы) назад по полету. На каждой основной стойке установлена тележка с четырьмя колесами. На передней стойке шасси имеется два колеса. Для улучшения маневренности самолета на земле при рулежке колеса передней стойки сделаны управляемыми. Хвостовая часть фюзеляжа предохраняется при посадке убирающейся в полете хвостовой опорой. В хвостовой части фюзеляжа установлен контейнер с двумя тормозными парашютами.
Силовая установка состоит из двух турбореактивных двигателей типа АМ-ЗА с максимальной статической тягой 8750 кгс или РД- ЗМ (9500 кгс). Запуск ТРД производится от газотурбинного стартера, смонтированного на двигателе.
Забор воздуха осуществляется у бортов фюзеляжа перед крылом посредством нерегулируемых воздухозаборников. Питание двигателя топливом (керосин Т-1) производится от 27 фюзеляжных и крыльевых баков мягкой конструкции. Максимальная заправка самолета топливом составляет 34 360 кг (41 400 л для Т-1). Для повышения живучести часть топливных баков выполнена протектированной, имеется оборудование заполнения надтопливного пространства нейтральным газом, а также противопожарная система, работающая автоматически. В ходе эксплуатации двигатели АМ-ЗА и РД-ЗМ были заменены на доработанные ТРД РД-ЗМ- 500 с увеличенным ресурсом.
Управление самолетом двойное. Система управления жесткая, без гидроусилителей. К системе основного управления подключен автопилот. Закрылки и триммеры руля поворота управляются от электромеханизмов, триммеры рулей высоты имеют электрическое и дублирующее их тросовое механическое управление.
Гидравлическая система конструктивно выполнена в виде двух независимо действующих гидросистем: основной гидросистемы и гидросистемы управления тормозами. Номинальное давление в гидросистемах – 150 кгс/см а. Основная система служит для подъема и выпуска шасси, основного открытия и закрытия створок бомболюка. Гидросистема управления тормозами одновременно обеспечивает аварийный выпуск и уборку шасси и запасное закрытие створок бомболюка.
Система электроснабжения состоит из первичной системы постоянного тока, питающейся от четырех генераторов ГСР-18000, и аккумуляторной батареи типа 12САМ-53 (резервный источник тока). Вторичной системы переменного однофазного тока, питающейся от двух преобразователей типа П0-4500.
Герметические кабины самолета – вентиляционного типа, отбор воздуха осуществляется от седьмых ступеней компрессора ТРД. Герметические кабины обеспечивают экипажу необходимые условия для боевой работы как по температуре, так и по давлению. Причем в боевых условиях, в зоне обстрела зенитными орудиями и при вступлении в бой с истребителями противника, во избежание резкого падения давления в кабинах при боевых повреждениях перепад давления в кабине и за бортом устанавливается постоянным и равным 0,2 атм.

Ракета КСР-2
Самолет оборудован жидкостной кислородной установкой и кислородными аппаратами для всех членов экипажа.
Передние кромки крыла имеют тепловой противообледенитель с питанием горячим воздухом от компрессоров ТРД. На таком же принципе выполнены противообледенители воздухозаборников двигателей.
Передние кромки киля и стабилизатора оборудованы электротермическими противообледенителями. Передние стекла фонаря кабины летчиков и переднее прицельное стекло штурмана имеют внутренний электрообогрев.
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА . Два ТРД АМ-ЗА (2 X 85,8 кН/2 х 8750 кгс.), РД-ЗМ (2 х 93,1 кН/2 х 9500 кгс) или РД-ЗМ-500 (2 х 93,1 кН/2 х 9500 кгс).
ОБОРУДОВАНИЕ
. Для обеспечения навигации самолета у штурмана и летчиков установлены:
– астрономический компас АК-53П;
– дистанционный астрономический компас ДАК-2;
– навигационный индикатор НИ-50Б;
– дистанционный компас ДГМК-7;
– магнитный компас КИ-12;
– указатель скорости КУС- 1200;
– высотомер ВД-17;
– авиагоризонт АГБ-2;
– указатель поворота ЭУП-46;
– маметр МС-1;
– акселерометр;
– авиасекстант;
– устройство дальней навигации СПИ-1;
– автоматический радиокомпас АРК-5;
– радиовысотомеры больших и малых высот РВ-17М и РВ-2;
– система «Материк» для слепой посадки самолета по сигналам наземных радиомаяков.
Для обеспечения пилотирования самолета в любых метеоусловиях и для разгрузки экипажа в длительных полетах на самолете установлен электрический автопилот АП-52М, связанный с системой управления.
Радиосвязное оборудование самолета состоит из:
– связной КВ радиостанции 1РСБ-70М для двухсторонней связи с землей;
– командной КВ радиостанции 1РСБ-70М для командной связи в соединении и с наземными радиостанциями;
– УКВ командной радиостанции РСИУ-ЗМ для командной связи внутри соединения и со стартом;
– самолетного переговорного устройства СПУ-10 для внутрисамолетной связи между членами экипажа и выхода их на внешнюю связь;
– аварийной передающей радиостанции АВРА-45 для подачи сигналов бедствия в случае вынужденной посадки самолета или его аварии.
Радиолокационное оборудование включает:
– радиолокационный бомбардировочный прицел РБП-4 «Рубидий-MMII» для обеспечения поиска и обнаружения наземных и надводных объектов в условиях отсутствия оптической видимости, решения навигационных задач по радиолокационным ориентирам земной поверхности и прицельного бомбометания с автоматическим сбросом бомб с высоты полета от 10 000 до 15 000 м по наземным и надводным неподвижным и движущимся целям. Радиолокационный прицел РБП-4 электрически связан с оптическим прицелом ОПБ-11р;

Ту-16 (вид спереди)
– систему опознавания самолетов («свой-чужой»), состоящей из запросчика СРЗ и ответчика СРО;
– прицельную радиолокационную станцию ПРС-1 «Аргон-1» для стрельбы в любых условиях видимости, синхронно связанную с оборонительными стрелковыми установками.
Для дневного фотографирования путевого маршрута и результатов бомбометания на самолете Ту-16 установлены аппараты АФА-ЗЗМ/75 или АФА-ЗЗМ/100, для дневного фотографирования с малых высот – АФА-ЗЗМ/50, для ночного фотографирования – НАФА-8С/50, для фотографирования изображения на индикаторе РБП-4-ФА-РЛ-1.
В ходе серийной постройки и создания модификаций, а также модернизации самолетов Ту-16 менялось и обновлялось оборудование, вводились новые системы и агрегаты.
На новых модификациях внедрились новые системы радиоэлектронного противодействия, повышавшие боевую устойчивость отдельных самолетов, а также групп самолетов Ту-16.
Основные конструктивные отличия некоторых серийных и модернизированных модификаций самолета Ту-16
ВООРУЖЕНИЕ . Самолет Ту-16 имеет один бомбовый отсек, оборудованный типовой системой бомбардировочного вооружения. Нормальная бомбовая нагрузка 3000 кг, максимальная бомбовая нагрузка 9000 кг. Возможна подвеска бомб калибра от 100 кг до 9000 кг. Бомбы калибров 5000, 6000 и 9000 кг подвешиваются на мосту балочного держателя типа МБД6, бомбы меньших калибров – на бортовых кассетных держателях типа КД-3 и КД-4.
Прицеливание при бомбометании производится через векторно-синхронный оптический прицел ОПБ-llp с автоматом боковой наводки, связанной с автопилотом, благодаря чему доворот самолета по курсу может производить штурман автоматически при прицеливании.
При плохой видимости земли прицеливание ведется с помощью РБП-4, в этом случае точность бомбометания повышается, так как ОПБ-11p связан с прицелом РБП-4 и отрабатывает для него необходимые параметры. Сброс бомб осуществляет штурман, бомбосбрасывание может производить также и штурман-оператор.
Система пушечного оборонительного вооружения ПВ-23 состоит из семи пушек типа АМ-23 калибра 23 мм, установленных на одной неподвижной и трех спаренных подвижных пушечных установках с дистанционным управлением.

Бомбардировщик Н-6Д
Для стрельбы вперед по направлению полета в носовой части фюзеляжа с правого борта установлена одна неподвижная пушка, которой управляет левый лётчик. Для наведения на цель у пилота на откидном кронштейне установлен прицел ПКИ.
Три подвижные установки – верхняя, нижняя и кормовая – осуществляют оборону задней полусферы. Верхняя установка, кроме того, «отстреливает» верхнюю часть передней полусферы.
Верхней установкой управляют штурман-оператор, вспомогательное управление с кормового прицельного поста осуществляет кормовой стрелок. Нижней установкой управляет с двух (левого и правого) блистерных прицельных постов стрелок-радист, вспомогательное управление с кормового прицельного поста осуществляет кормовой стрелок.
Управление кормовой установкой ведет с кормового прицельного поста кормовой стрелок, который в экипаже является командиром огневых установок (КОУ); вспомогательное управление установкой осуществляется: с верхнего прицельного поста – штурманом-оператором, с нижнего прицельного поста – стрелком-радистом.
На прицельных постах установлены прицельные станции типа ПС-53, с которыми синхронно связана ПРС-1.
Ту-16КС на двухбалочных крыльевых держателях подвешивал ракеты КС-1, в грузоотсеке размещалась герметическая кабина с РЛС наведения «Кобальт-М» с оператором, антенны опускались как на Ту-4.
Ту-16А – носитель ядерной свободнопадающей бомбы – имел грузоотсек с термоизоляцией, а обшивка самолета покрывалась специальной защитной краской, предохраняющей от светового излучения ядерного взрыва.
На Ту-16К-10 – носителе самолета-снаряда типа К-10С – в носовой части фюзеляжа устанавливались антенны радиолокационной системы наведения К-10С типа «ЕН». В грузоотсеке на балочном дренаже в полуутопленном положении подвешивался самолет-снаряд К-10. За грузоотсеком находилась гермокабина оператора станции «ЕН». Штурман переместился на место штурмана-оператора. Был введен дополнительный топливный бак запуска двигателя самолета-снаряда К-10С. Для питания блоков станции «ЕН» добавлен преобразователь П0-4500 (ПО-б000).
Ту-16К-11-16 оснащен самолетами-снарядами типа КСР-2 или КСР-11, расположенными на крыльевых балочных держателях. Возможно использование самолета как бомбардировщика или в комбинированном варианте. В носовой части установлена антенна разведывательной станции «Рица» и РЛС типа «Рубин-1KB». Носовая пушка снята.
Ту-16К-26 вооружен самолетами-снарядами КСР-2, КСР-11 или КСР-5 и по вооружению полностью подобен Ту-16К-11-16 (за исключением узлов подвески КСР-5).
Ту-16К-10-26 несет два самолета-снаряда К-10С или два КСР-5 на подкрыльевых пилонах.
Ту-16Т – самолет-торпедоносец и постановщик мин в грузоотсеке подвешивал торпеды и мины типа РАТ-52, 45-36МАВ, АМО-500 и АМО-1000.
Ту-16П и Ту-16 «Елка» – самолеты РЭП, оборудованные различными системами подавления радиоэлектронных средств противника.
Пассивные и активные средства РЭП монтировались в грузоотсеке и в унифицированном хвостовом отсеке (УХО). По мере уменьшения размеров аппаратуры РЭП и улучшения ее эксплуатационных возможностей эта аппаратура внедрилась практически на всех модификациях самолетов Ту-16.
Самолеты-разведчики Ту-16Р оснащались различными сменными комплектами АФА или НАФА для высотного, маловысотного и ночного фотографирования. В случае использования Ту-16Р (вариант Ту-16Р2) для ночного фотографирования в бомбоотсеке на некоторых держателях подвешивались фотобомбы для подсветки объектов разведки. Под крыльями на пилонах подвешивались, в зависимости от выполняемой задачи, контейнеры с аппаратурой радиотехнической разведки или контейнеры с заборниками и анализаторами радиационной разведки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Ту-16
РАЗМЕРЫ . Размах крыла 33,00 м; длина самолета 34,80 м; высота самолета 10,36 м; площадь крыла 164,65 м2 .
МАССЫ ,кг: нормальная взлетная 72 000 (Ту-16), 76 000 (Ту-16К), пустого самолета 37 200, максимальная взлетная 79 000, максимальная посадочная 55 000 (при посадке на грунтовую ВПП 48 000), топлива и масла 36000.
ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . Максимальная скорость на высоте 1050 км/ч; практический потолок 12 800 м; практическая дальность с двумя УР на подкрыльевых узлах подвески 3900 км; практическая дальность полета с боевой нагрузкой 3000 кг 5800 км; перегоночная дальность 7200 км; длина разбега 1850-2600 м; длина пробега 1580-1670 м (с тормозным парашютом 1120-1270 м; максимальная эксплуатационная перегрузка 2.
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ . По своим основным характеристикам самолет Ту-16 оставался вполне передовым до конца 1950-х годов, превосходя основной американский стратегический бомбардировщик Боинг В-47 «Стратоджет» практически по всем параметрам. В целом Ту-16 соответствовал английскому бомбардировщику Виккерс «Вэлиент» и несколько уступал самолетам Авро «Вулкан» и Хэндли Пейдж «Виктор» по дальности и потолку. В то же время существенным преимуществом туполевской машины явилось ее мощное оборонительное вооружение, компоновка, позволяющая оснащать самолет разнообразным ракетным вооружением, подвешиваемым как под крылом, так и под фюзеляжем, а также способность эксплуатироваться с грунтовых ВПП (уникальное свойство для тяжелого бомбардировщика).
Кроме ВВС и ВМФ СССР, Ту-16 поставлялись Индонезии (20 Ту-16К), Египту и Ираку. Впервые они были использованы во время индонезийско-малазийского конфликта.
Перед «шестидневной войной» в июне 1967 г. ВВС Египта также получили 20 бомбардировщиков Ту-16К с УР КС-1. Эти самолеты, по мнению израильского командования, представляли основную угрозу для территории Израиля и поэтому были уничтожены в первую очередь: в результате массированного удара истребительно-бомбардировочной авиации все Ту, аккуратно выстроенные в линейку на египетских аэродромах и являвшиеся прекрасной мишенью, были выведены из строя в течение первых часов конфликта, ни один бомбардировщик так и не поднялся в воздух.
В 1973 г. египетские ВВС, получившие на вооружение вместо уничтоженных в 1967 г. самолетов новые машины Ту-16У-11-16, сумели «реабилитироваться», успешно применив 10 противорадиолокационных ракет КСР-11 против израильских РЛС. По утверждению египтян, большинство целей было поражено без потерь с арабской стороны. В то же время израильтяне утверждали, что им удалось сбить один бомбардировщик и большинство ракет, при этом было уничтожено два израильских радиолокационных поста и полевой склад боеприпасов на Синайском полуострове. В боевых действиях приняло участие 16 бомбардировщиков, базировавшихся на аэродромах к югу от Синая, вне досягаемости израильской авиации.
После разрыва в 1976 г. военных связей между Египтом и СССР египетские Ту-16 оказались без запасных частей, однако проблему удалось решить, обратившись за помощью к Китаю, поставившему в обмен на истребитель-бомбардировщик МиГ-23БН необходимое оборудование.
В ходе боевых действий в Афганистане Ту-16 наносили бомбовые удары со средних высот, сбрасывая на базы моджахедов свободнопадающие бомбы. Вылеты осуществлялись с аэродромов на территории СССР. В частности, мощным бомбардировкам с воздуха с использованием бомбардировщиков Ту-16 были подвергнуты районы, прилегающие к городам Герат и Кандагар. Типовое вооружение самолетов состояло из 12 бомб ФАБ-500 калибром 500 кг.
В ходе ирано-иракской войны Ту-16К-11-16 иракских ВВС наносили неоднократные ракетно-бомбовые удары по объектам в глубине иранской территории (в частности, ими был совершен налет на аэропорт в Тегеране). В ходе боевых действий в районе Персидского залива в 1991 г. иракские Ту-16, почти вылетавшие ресурс, оставались на земле, где частично были уничтожены авиацией союзников.
Ctrl Enter
Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Эпоху в российской дальней авиации открыл самолет Ту-16 – первый советский дальний бомбардировщик с ТРД и второй в мире серийный самолет этого класса.
Работы по проектированию реактивной машины, предназначенной для замены поршневого самолета Ту-4, были развернуты в ОКБ А.Н. Туполева в 1948 г. Первоначально они носили инициативный характер и опирались на предварительные теоретические исследования, проведенные в ОКБ и ЦАГИ, по формированию облика тяжелых боевых самолетов с ТРД и стреловидными крыльями большого удлинения (следует заметить, что эти работы, в отличие от аэродинамических центров США и Великобритании, велись ЦАГИ самостоятельно, без использования трофейных германских материалов, которых к моменту начала работ по созданию бомбардировщика еще не было в распоряжении советских специалистов).
В начале 1948 г. в бригаде проектов туполевской фирмы завершили сугубо прикладную работу «Исследование летных характеристик тяжелых реактивных самолетов со стреловидным крылом», в которой рассматривались возможные варианты решения задачи создания реактивного бомбардировщика со скоростью, приближающейся к 1000 км/ч, и бомбовой нагрузкой 6000 кг, имеющего вооружение и экипаж как у самолета Ту-4.
Следующим шагом стала работа ОКБ по исследованию влияния площади и удлинения крыла на летные характеристики самолета со стреловидным крылом, завершенная в феврале 1949 г. В ней рассматривались гипотетические проекты тяжелых самолетов взлетной массой до 35 т, площадью крыла в диапазоне от 60 до 120 м2 и различными значениями удлинения крыла. Изучалось влияние этих параметров и их сочетаний на дальность полета, длину разбега, скоростные и другие летные характеристики самолета. Параллельно шли практические работы по исследованию стреловидных крыльев применительно к тяжелым реактивным самолетам.
Схема самолета Ту-16
В короткий срок в ОКБ был создан проект экспериментального бомбардировщика – самолет «82» с двумя реактивными двигателями РД-45Ф или ВК-1. Самолет предназначался для получения больших, близких к звуковым, скоростей полета, соответствующих М=0,9-0,95.
Радиосвязное оборудование самолета состоит из:
– связной КВ радиостанции 1РСБ-70М для двухсторонней связи с землей;
– командной КВ радиостанции 1РСБ-70М для командной связи в соединении и с наземными радиостанциями;
– УКВ командной радиостанции РСИУ-ЗМ для командной связи внутри соединения и со стартом;
– самолетного переговорного устройства СПУ-10 для внутрисамолетной связи между членами экипажа и выхода их на внешнюю связь;
– аварийной передающей радиостанции АВРА-45 для подачи сигналов бедствия в случае вынужденной посадки самолета или его аварии.
Радиолокационное оборудование включает:
– радиолокационный бомбардировочный прицел РБП-4 «Рубидий-MMII» для обеспечения поиска и обнаружения наземных и надводных объектов в условиях отсутствия оптической видимости, решения навигационных задач по радиолокационным ориентирам земной поверхности и прицельного бомбометания с автоматическим сбросом бомб с высоты полета от 10 000 до 15 000 м по наземным и надводным неподвижным и движущимся целям. Радиолокационный прицел РБП-4 электрически связан с оптическим прицелом ОПБ-11р;

Ту-16 (вид спереди)
– систему для опознавания самолетов («свой-чужой»), состоящей из запросчика СРЗ и ответчика СРО;
– прицельную радиолокационную станцию ПРС-1 «Аргон-1» для стрельбы в любых условиях видимости, синхронно связанную с оборонительными стрелковыми установками.

Бомбардировщик Н-6Д
Для стрельбы вперед по направлению полета в носовой части фюзеляжа с правого борта установлена одна неподвижная пушка, которой управляет левый пилот. Для наводки на цель у пилота на откидном кронштейне установлен прицел ПКИ.
Три подвижные установки – верхняя, нижняя и кормовая – осуществляют оборону задней полусферы. Верхняя установка, кроме того, «отстреливает» верхнюю часть передней полусферы.
Верхней установкой управляют штурман-оператор, вспомогательное управление с кормового прицельного поста осуществляет кормовой стрелок. Нижней установкой управляет с двух (левого и правого) блистерных прицельных постов стрелок-радист, вспомогательное управление с кормового прицельного поста осуществляет кормовой стрелок.
Управление кормовой установкой ведет с кормового прицельного поста кормовой стрелок, который в экипаже является командиром огневых установок (КОУ); вспомогательное управление установкой осуществляется: с верхнего прицельного поста – штурманом-оператором, с нижнего прицельного поста – стрелком-радистом.
На прицельных постах установлены прицельные станции типа ПС-53, с которыми синхронно связана ПРС-1.
Ту-16КС на двухбалочных крыльевых держателях подвешивал ракеты КС-1, в грузоотсеке размещалась герметическая кабина с РЛС наведения «Кобальт-М» с оператором, антенны опускались как на Ту-4.
Ту-16А – носитель ядерной свободнопадающей бомбы – имел грузоотсек с термоизоляцией, а обшивка самолета покрывалась специальной защитной краской, предохраняющей от светового излучения ядерного взрыва.
На Ту-16К-10 – носителе самолета-снаряда типа К-ЮС – в носовой части фюзеляжа устанавливались антенны радиолокационной системы наведения К-10С типа «ЕН». В грузоотсеке на балочном дренаже в полуутопленном положении подвешивался самолет-снаряд К-10. За грузоотсеком находилась гермокабина оператора станции «ЕН». Штурман переместился на место штурмана-оператора. Был введен дополнительный топливный бак запуска двигателя самолета-снаряда К-ЮС. Для питания блоков станции «ЕН» добавлен преобразователь П0-4500 (ПО-б000).
Ту-16К-11-16 оснащен самолетами-снарядами типа КСР-2 или КСР-11, расположенными на крыльевых балочных держателях. Возможно использование самолета как бомбардировщика или в комбинированном варианте. В носовой части установлена антенна разведывательной станции «Рица» и РЛС типа «Рубин-1KB». Носовая пушка снята.
Ту-16К-26 вооружен самолетами-снарядами КСР-2, КСР-11 или КСР-5 и по вооружению полностью подобен Ту-16К-11-16 (за исключением узлов подвески КСР-5).
Ту-16К-10-26 несет два самолета-снаряда К-10С или два КСР-5 на подкрыльевых пилонах.
Ту-16Т – самолет-торпедоносец и постановщик мин в грузоотсеке подвешивал торпеды и мины типа РАТ-52, 45-36МАВ, АМО-500 и АМО-1000.
Ту-16П и Ту-16 «Елка» – самолеты РЭП, оборудованные различными системами подавления радиоэлектронных средств противника.
Пассивные и активные средства РЭП монтировались в грузоотсеке и в унифицированном хвостовом отсеке (УХО). По мере уменьшения размеров аппаратуры РЭП и улучшения ее эксплуатационных возможностей эта аппаратура внедрилась практически на всех модификациях самолетов Ту-16.
Самолеты-разведчики Ту-16Р оснащались различными сменными комплектами АРА или НАР А для высотного, маловысотного и ночного фотографирования. В случае использования Ту-16Р (вариант Ту-16Р2) для ночного фотографирования в бомбоотсеке на некоторых держателях подвешивались фотобомбы для подсветки объектов разведки. Под крыльями на пилонах подвешивались, в зависимости от выполняемой задачи, контейнеры с аппаратурой радиотехнической разведки или контейнеры с заборниками и анализаторами радиационной разведки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Ту-16
РАЗМЕРЫ . Размах крыла 33,00 м; длина самолета 34,80 м; высота самолета 10,36 м; площадь крыла 164,65 м2 .
МАССЫ ,кг: нормальная взлетная 72 000 (Ту-16), 76 000 (Ту-16К), пустого самолета 37 200, максимальная взлетная 79 000, максимальная посадочная 55 000 (при посадке на грунтовую ВПП 48 000), топлива и масла 36000.
ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . Максимальная скорость на высоте 1050 км/ч; практический потолок 12 800 м; практическая дальность с двумя УР на подкрыльевых узлах подвески 3900 км; практическая дальность полета с боевой нагрузкой 3000 кг 5800 км; перегоночная дальность 7200 км; длина разбега 1850-2600 м; длина пробега 1580-1670 м (с тормозным парашютом 1120-1270 м; максимальная эксплуатационная перегрузка 2.
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ . По своим основным характеристикам самолет Ту-16 оставался вполне передовым до конца 1950-х годов, превосходя основной американский стратегический бомбардировщик Боинг В-47 «Стратоджет» практически по всем параметрам. В целом Ту-16 соответствовал английскому бомбардировщику Виккерс «Вэлиент» и несколько уступал самолетам Авро «Вулкан» и Хэндли Пейдж «Виктор» по дальности и потолку. В то же время существенным преимуществом туполевской машины явилось ее мощное оборонительное вооружение, компоновка, позволяющая оснащать самолет разнообразным ракетным вооружением, подвешиваемым как под крылом, так и под фюзеляжем, а также способность эксплуатироваться с грунтовых ВПП (уникальное свойство для тяжелого бомбардировщика).
Кроме ВВС и ВМФ СССР, Ту-16 поставлялись Индонезии (20 Ту-16К), Египту и Ираку. Впервые они были использованы во время индонезийско-малазийского конфликта.
Перед «шестидневной войной» в июне 1967 г. ВВС Египта также получили 20 бомбардировщиков Ту-16К с УР КС-1. Эти самолеты, по мнению израильского командования, представляли основную угрозу для территории Израиля и поэтому были уничтожены в первую очередь: в результате массированного удара истребительно-бомбардировочной авиации все Ту, аккуратно выстроенные в линейку на египетских аэродромах и являвшиеся прекрасной мишенью, были выведены из строя в течение первых часов конфликта, ни один бомбардировщик так и не поднялся в воздух.
В 1973 г. египетские ВВС, получившие на вооружение вместо уничтоженных в 1967 г. самолетов новые машины Ту-16У-11-16, сумели «реабилитироваться», успешно применив 10 противорадиолокационных ракет КСР-11 против израильских РЛС. По утверждению египтян, большинство целей было поражено без потерь с арабской стороны. В то же время израильтяне утверждали, что им удалось сбить один бомбардировщик и большинство ракет, при этом было уничтожено два израильских радиолокационных поста и полевой склад боеприпасов на Синайском полуострове. В боевых действиях приняло участие 16 бомбардировщиков, базировавшихся на аэродромах к югу от Синая, вне досягаемости израильской авиации.
После разрыва в 1976 г. военных связей между Египтом и СССР египетские Ту-16 оказались без запасных частей, однако проблему удалось решить, обратившись за помощью к Китаю, поставившему в обмен на истребитель-бомбардировщик МиГ-23БН необходимое оборудование.
В ходе боевых действий в Афганистане Ту-16 наносили бомбовые удары со средних высот, сбрасывая на базы моджахедов свободнопадающие бомбы. Вылеты осуществлялись с аэродромов на территории СССР. В частности, мощным бомбардировкам с воздуха с использованием бомбардировщиков Ту-16 были подвергнуты районы, прилегающие к городам Герат и Кандагар. Типовое вооружение самолетов состояло из 12 бомб ФАБ-500 калибром 500 мм.
В ходе ирано-иракской войны Ту-16К-11-16 иракских ВВС наносили неоднократные ракетно-бомбовые удары по объектам в глубине иранской территории (в частности, ими был совершен налет на аэропорт в Тегеране). В ходе боевых действий в районе Персидского залива в 1991 г. иракские Ту-16, почти вылетавшие ресурс, оставались на земле, где частично были уничтожены авиацией союзников.

Ту-16 в Монино

Разведывательный Ту-16 в сопровождении истребителя F-4 ВМС США. Тихий океан, 1963 год
Ту-16 в сопровождении истребителя F/A-18A Hornet ВМС США. Средиземное море, 1985 год.

Ту-16Р, 1985 год.

Ту-16 пролетает над советским крейсером, 1984 год.
Это случилось 26 февраля 1988 года. Морозный зимний день клонился к закату, когда с экранов береговых радаров Камчатки пропала цель. Исчез реактивный ракетоносец Ту-16, который вот уже несколько часов в паре с таким же ракетоносцем вел учебный бой над Охотским морем против двух истребителей МИГ-31.
Бой был закончен, самолеты разошлись, первый Ту-16 уже заходил на посадку. Начал снижение и второй. Ему оставалось чуть больше ста километров до берега, и тут зеленая точка на мерцающих экранах наблюдателей пропала.
Томительно побежали минуты, приникли к приемникам радисты, вслушиваясь в эфир. Рация Ту-16 на вызовы не отвечала…
Я шел вторым с интервалом в двадцать минут. Первый экипаж уже заходил на посадку, как у меня при снижении встали оба двигателя…
Так начал свой рассказ командир исчезнувшего Ту-16, голос которого, записанный на магнитную пленку, мне довелось услышать совсем недавно.
Предоставил мне такую возможность Дмитрий Иванович Демьяненко, генерал-лейтенант ВВС, ныне в отставке, а ранее долгие годы возглавлявший Службу поиска и спасения, вызво-лявший из беды и космонавтов, и летчиков, как военных, так и гражданских.
Два года назад мне довелось лететь с этим бывалым генералом над морем Лаптевых к архипелагу Земля Франца-Иосифа, чтобы оттуда стартовать на вертолетах к Северному полюсу. Отрабатывалась операция по спасению экипажа, потерпевшего аварию во льдах. И я спросил Демьяненко, случались ли аварии самолетов над акваториями северных морей и удавалось ли при этом спасать летчиков? Ведь известно, что ледяная вода этих морей способна лишить человека жизни за двадцать минут.
Случались,- отвечал генерал и привел случаи недавнего спасения двух пилотов в Баренцевом море, продержавшихся в воде около часа; и в Белом море, там пилот плыл к берегу на легонькой лодчонке несколько часов. Но в качестве самого удивительного случая победы человеческого духа над ледяной стихией он «дивед. а$1им.е5 спасения одного иг членов экипажа Ту-16 в Охотском море. Пилот, припомнил он, сумел продержаться в ледяной воде до прибытия помощи семнадцать часов! История эта заинтересовала меня, и генерал пообещал предоставить мне возможность прослушать магнитофонную запись рассказа пилота, сделанную спустя несколько месяцев после случившегося с ним в специальном центре, где обучают летчиков приемам выживания в экстремальных условиях. Не сразу, лишь спустя несколько месяцев, довелось нам встретиться, но генерал сдержал слово: я у слышал рассказ летчика. История эта, несмотря на то, что была достаточно давно, настолько поразила меня, что я решил рассказать о ней читателям нашего журнала.
- … Мы сделали попытку запустить двигатели. Одну. Вторую. Тщетно. Двигатели не запускались. - Хрипловатый голос командира казался не записанным на магнитную ленту, а звучащим здесь и сейчас, - эту иллюзию, как я понял потом, создавала его искренность.
- После пятой попытки стало ясно - не запустить. Энергии в аккумуляторах совсем не осталось. Отказала рация, не работало внутреннее переговорное устройство.
На Ту-16 экипаж - шесть человек. Второй пилот и штурман находятся рядом со мной, в головной кабине. А штурман-оператор за перегородкой в центральном отсеке, с ним только по радио можно переговорить. И еще два человека в кормовом отсеке: стрелок и радист. И если нам троим обстановка была понятна, то троим другим лишь по наступившей тишине можно было догадываться о том, что произошло. Дать им команду на катапультирование я не имел возможности. И дотянуть до берега надежды не было. Оставалось одно: садиться на воду!
В инструкциях, как известно, - помолчав, продолжал командир, - такая возможность не исключается, но в жизни никем это еще не было опробовано. Однако в авиаучилище мне пришлось недолго полетать на Бе-12, гидросамолетах, так что кое-какую практику посадки тяжелых аппаратов на воду я имел.
До берега, когда снизились до высоты посадки, оставалось километров 30-35. Если бы под нами не оказалось шуги и ломкого льда, возможно, все и окончилось бы иначе. Но, как нарочно, именно с этого места начиналась полоса шуги, протянувшаяся до самого берега.
По днищу затарабанило как из пулемета, и стало ясно, что обшивка фюзеляжа будет пробита и покорежена. Но тут еще и заклинило аварийные люки, которые должны были открыться при посадке.
Пробежка закончилась, ракетоносец покачивался на воде. Собравшись с силами, я выбил руками люк над собой. Холодный воздух ожег лицо. Температура в этот день была минус семнадцать градусов, а совсем рядом плескалась ледяная морская вода. Ощущение было такое, что еще немного, и она польется в кабину. Я дал команду покидать самолет через мой люк.
В самолете в качестве спасательных средств имелись две надувные лодки ЛАЗ-5. В них спокойно могли бы продержаться длительное время наши шесть человек в ожидании помощи. Но у каждого члена экипажа под парашютом имелась и персональная надувная лодочка. Так что надежда уцелеть была.
Я выбрался из кабины, освободив путь для выхода товарищам, и хотел было по фюзеляжу пробраться первым делом к отсеку штурмана-оператора. Но от поднятых при посадке брызг фюзеляж покрылся коркой льда. Не сделав и шагу, я поскользнулся и свалился в воду. Как известно, летаем мы не в скафандрах, вымок тут же до нитки, но даже на то, чтобы почувствовать растерянность, не оставалось времени. Вплавь добрался до крыла, влез на него, подтащил парашют, спасательную лодку, НАЗ - неприкосновенный аварийный запас. И тут увидел, что открывается люк аварийного выхода штурмана-оператора. Лицо его было в крови, видно, при посадке его здорово тряхнуло: у него были повреждены ноги ниже колен, разбита голова. Я быстро освободился от поясной системы, поспешил ему на помощь. Привел в действие кран надува его спасательной лодки, помог ему перебраться в нее и оттолкнул от самолета.
Второй пилот уже был на плаву, в своей лодке, а штурман продолжал оставаться в самолете. Он пытался выпустить ЛАЗ-5, главную лодку, находящуюся в специальном люке сразу за кабиной по правому борту фюзеляжа.
При аварии достаточно поворота крана, находящегося в кабине, чтобы она вывалилась на воду уже в полной готовности, надутой, с наличием аварийного запаса спасательных средств. Но и этот люк заклинило, лодка не выпускалась.
Прошло уже минут пять, как мы сели на воду. Я еще ничего не успел узнать о стрелке и радисте в хвостовом отсеке, а второй пилот сигнал подает: «Командир, самолет начинает тонуть, давайте быстро отсюда!» Я кричу штурману, а тот свое в ответ: «Командир, не могу ничего сделать с краном, лодка не выходит». Я ему приказал прыгать в воду. Потому что, если бы он начал отстегивать свою лодку от парашютной системы, то сразу бы утонул.
Штурман выполнил приказание: уже плыл в воде. Я посоветовал ему плыть к лодке второго пилота и лечь грудью ему на ноги. А самолет уже ощутимо оседал, скрылись под водой плоскости, мою лодку отнесло, и я поплыл к ней. Забрался в лодку, оглянулся. Хвостовой отсек уже был притоплен. Люк, через который должны были покинуть самолет стрелок и радист, находился в воде. Мы не знаем, пытались ли они выбраться, но и оказать им какую-то помощь мы были не в силах. В общей сложности самолет находился на плаву минут, ну, восемь. Не более. Внезапно он резко пошел на корму, задрал нос и ушел под воду, унося с собой двух наших товарищей.
Четверо остались на пустынной морской поверхности. У двоих по лодочке. Двое на одной. Как выжить, уцелеть? Через минуту какую-то лопается лодка второго пилота, он и штурман оба оказываются в воде. Хорошо, что все мы были недалеко друг от друга. Второй подплыл ко мне, лег грудью на ноги, а штурман лег грудью на ноги штурману-оператору. Теперь из нас только он один - этот раненый - еще не испытал ожога ледяной купели.
Стали осматриваться, и, чудо - метрах в четырехстах от нас, видим, колышется оранжевая, надутая ЛАЗ-5. Пустая. Как она там оказалась, теперь уже невозможно сказать. То ли при посадке ее успели выпустить стрелок с радистом, то ли ее просто выбило при тряске. Но для нас это был подарок судьбы, сразу прибавилось надежды на спасение.
Поплыли к лодке. Грести приходилось руками. Я был в шевретовых перчатках, у остальных перчаток не было. Льдины мешали. До лодки добрались мы только через сорок минут. Она оказалась перевернутой кверху днищем. Я подсадил второго пилота. Он взялся за боковой фал и методом падения на спину, потянув фал на себя, перевернул ее.
Штурмана-оператора мы решили не тревожить, он остался в своей лодочке, а мы втроем перебрались в ЛАЗ-5. Ступней ног я уже не чувствовал, руки тоже мне не подчинялись, холод давал себя знать. А надо было еще средства спасения, что имелись в лодке, подготовить, привести их в рабочее состояние.
Шевретовые перчатки, хотя и помогли грести, когда плыли в шуге, но теперь они раскисли, и я их снял. У остальных руки были сильно изранены. У меня в кармане оказались шерстяные вязаные рукавицы. Я отжал их и отдал штурману. Он их надел, и мы распределили, кому чем заняться, чтобы быть готовыми встретить помощь. Надеялись, что вскоре придут вертолеты.
Приготовили ПСНД - сигнальные ракеты, весла, достали рацию. Очень трудно оказалось соединить радиостанцию с блоком питания. От воды предохранительная крышка блока задубела, пришлось ее срезать ножом, а руки не подчинялись, намертво соединить блок питания с рацией мы так и не смогли. Но все же мне удалось передать в эфир сигнал бедствия. Рацию после передачи я сунул за пазуху. Почему туда, а не в карман? Да потому, что замки карманов я расстегнуть уже не мог.
Но тут мы заметили, что задний борт нашей лодки просел. Очевидно, от ударов о лед в резине появились микротрещины. Но отыскивать их, а тем более заделывать не было возможности. Когда мы, все мокрые, забирались в лодку, то занесли в нее много воды. Она плескалась поверх днища, и все, что мы могли сделать в этом положении, так это перекрыть хотя бы краны, чтобы воздух уцелел в носовых секциях. Очень долго я занимался с правым краном, руки совсем не подчинялись, а резина от мороза сделалась твердой, неподатливой, но все же перекрыть кран удалось. За левый я уже не стал браться. Над нами появился самолет Ан-12.
Я достал рацию, но работать с ней один уже не мог: руки не держали. Штурман прижал рацию с блоком питания к груди, а я большими пальцами нажимал на тангенту и передавал. Сначала голосом. Свои позывные, сигнал бедствия, а потом надавил на тангенту, чтобы в эфир шел непрерывный сигнал.
Самолет развернулся и пошел курсом в нашем направлении. Мы поняли, что наши сигналы там приняты, выходят на нас, теперь им только увидеть бы нас.
Кое-как собрав рацию, я сунул ее штурману под куртку, а сам поднял свою спасательную лодку кверху оранжевым днищем и попытался ею сигналить, надеясь, что так нас быстрее заметят. Но самолет сделал один круг над нами, второй и ушел. Откуда нам было знать, что у него было горючее на исходе. Он возвращался откуда-то, а диспетчер попросил его нас поискать, если будет возможность, что пилоты и сделали.
Как потом выяснилось, с Ан-12 нас не разглядели, но радиосигналы услышали. Мы же были уверены, что нас заметили и Ан-12 пошел на аэродром, чтобы направить к нам вертолеты. Порадовавшись этому, мы как-то выпустили из поля зрения второго пилота. А он, оказавшись у нас за спиной, упал на просевший борт лодки. Тело его забилось в судорогах. Затем он весь как-то выпрямился, задеревенел и стал съезжать за борт.
Вместе со штурманом мы бросились втягивать второго пилота в лодку. Попытались заставить сесть, но согнуть его никак не удавалось. Тогда я впрыгнул в маленькую лодку, стал помогать штурману с воды, но тело пилота съехало с борта ЛАЗ-5, и он оказался у меня на ногах.
Я пытался привести его в чувство, расшевелить, бил по щекам, просил очнуться. Он вроде пришел в себя, попытался что-то сказать. Но речь его была нечленораздельной. А потом он захрипел и… скончался. Умер у нас на глазах.
Мы перенесли его в большую лодку, я примотал его фалом к борту, чтобы не смыло волной.
Подняв голову, я чуть не вскрикнул. Метрах в трехстах от нас застыла подводная лодка. Мы не слышали, как она всплыла, людей на ней не было видно, казалось, она дремала, как какой-нибудь кит, и я испугался, что так же равнодушно, не заметив нас, она исчезнет под водой.
Я взял весло и хотел плыть к ней, стучать по броне, звать на помощь. Но штурман предупредил: «Не надо, командир!» Чтобы добраться до подводной лодки, надо было одолеть полосу метров в сто пятьдесят шуги и льда. А это было опасно. Прав был штурман: где-нибудь на полпути можно было остаться без лодки, и тогда уж нам никогда не выбраться обратно. Пришлось расстаться с этим намерением, а подлодка все так же, оставаясь безлюдной, продолжала как бы подремывать в отдалении.
У штурмана-оператора, очевидно, что-то случилось со зрением. Он, хотя и озирался по сторонам, будто ничего не видел и все выспрашивал нас, что происходит, как обстановка? Мы объясняли, что самолет нас нашел, скоро придет помощь, и он, хотя к тому времени промерз до костей не меньше нашего, но держался стойко.
Наконец появились вертолеты. Мы порадовались, конец нашим мытарствам! Но… опять осечка. Вертолеты искали нас по i ромке и чуть мористее. Были моменты, когда они кружили в каком-то километре от нас. А мы не могли их вывести на себя.
Радиостанцию, я хорошо помнил это, когда улетел самолет, я сам спрятал штурману за пазуху. Вместе с блоком питания. Рация осталась, а блок питания исчез. Должно быть, когда перетаскивали второго пилота, он выпал у штурмана. Мы искали его на дне лодки, пытались откачивать воду, но так и не нашли. Видимо, он выпал в море.
Тогда мы принялись жечь сигнальные ракеты. Сожгли в отчаянии все ПСНД. И без толку. С вертолетов нас так и не заметили. Сумерки здесь наступают в половине седьмого, и, когда стало темнеть, вертолеты удалились. Пропала и подводная лодка. Стало ясно, что до утра помощи ожидать нечего. Вряд ли будут пытаться нас отыскать ночью.
Штурман был человеком опытным, много повидавшим на своем веку. «Константин, - говорит он, - должно быть, прощаться надо. Не дотянуть до утра».
На воде мы пробыли часа три с половиной, а натерпелись предостаточно, и, конечно, я понимал, что продержаться еще часов десять будет гораздо тяжелее, но, как и подобает командиру, мысленно одернул себя: «Держись, командир!» И ответил штурману, так, чтобы слышал и второй, что ерунда, мол, ребята, выдержим, дотянем. Берег рядом, есть у нас хорошие летчики, способные проводить поиск и спасение в любых условиях, нас не оставят. Потому что понимал: ни в коем случае нельзя было терять уверенность в благополучном исходе всей этой истории.
Однако вдохнуть спасительную веру в товарищей мне, видимо, не удалось. К вечеру умер раненый штурман-оператор. Замерз. Хотя и в воде ему побывать не пришлось. Так же, как и второй пилот, забился в судорогах, засуетился, попытался что-то сказать - и отошел. Нет человека.
Я хотел было перетащить его в ЛАЗ-5, а штурману предложил перебраться в освободившуюся лодочку, но тот замотал головой и как-то вяло отказался. Остался лежать грудью на полуспущенном борту большой лодки. Моя лодка была привязана рядом, и я пытался разговаривать с ним, не давать забыться, заснуть. Он нехотя отвечал, затем замолк. Пережить своего собрата штурмана-оператора ему удалось всего лишь на сорок минут.
Я остался один. Не знаю зачем, может, хотел ракет поискать, чтобы было чем себя обозначить в темноте, если придет помощь, но я забросил руку через борт ЛАЗ-5 и пошарил на дне лодки. Что-то зацепил в воде. Потянул. Оказалось, парус. Вытащил его к себе и накрылся. Получилось что-то вроде палатки надо мной. Должно быть, это и помогло мне не замерзнуть. Под пологом установился микроклимат, это и спасло меня.
Теперь надо было продержаться до утра. Не уснуть. Стал напоминать себе, что, когда наступает спокойствие, становится теплее, как бы согреваешься - это обман. Надо заставить себя двигаться, чтобы выйти из состояния дремы. Когда начинает трясти, бьет озноб, когда ощущаешь холод, это хорошо, апатия в таких случаях - верный путь к гибели.
Вспомнил, что у меня остался бортпаек. Две баночки сока, маленькая баночка тушенки, три галеты и шоколадка. Сразу захотелось есть. Я съел тушенку, две галеты, выпил сок, а остальное приберег на потом.
Второй раз я поел уже часа в три-четыре. Не помню, во сколько точно. Хотя командирские мои часы шли, я постоянно посматривал на циферблат, узнавая время, но в памяти этот момент не отложился.
Нот я уже не чувствовал, но все время пытался заниматься зарядкой. Заставлял себя представить, что там мои пальцы, мои колени, и я их сгибаю, ими шевелю. Кисти рук тоже онемели, я их пытался отогревать под мышками. Какое-то тепло под курткой еще оставалось.
Вначале я в лодке сидел. Потом, когда контроль потерялся, съехал, полулег. В лодке была вода, холод захватил живот, спину. Я перестал ощущать свое тело до плеч. Плечи и руки находились над бортами лодки.
Чтобы не заснуть, стал припоминать стихи, читать их вслух. Силился вспомнить забытые строчки, пел, говорил с собою, только бы не заснуть. Может, это банально звучит, но так было - припомнил сцену из фильма «Чапаев», где он плывет через реку из последних сил. «Врешь, не возьмешь!» - кричит. И так же я закричал, был такой момент. Перед глазами пронеслось прошлое, вся моя жизнь. Умирать не хотелось.
Начало рассветать. И вдруг я услышал человеческие голоса. Подумал, галлюцинации начинаются. Но голоса не пропадали. Где-то рядом негромко разговаривали люди. Сбросил с головы парус. Оранжевая лодка стала белой, борта ее обледенели. Штурман-оператор на лодке в глыбу льда превратился, а штурмана нет. Съехал в воду, одна рука из воды торчит. Веревка, фал, которым тот привязал себя в последние минуты жизни к борту лодки, удерживает тело.
А голоса опять слышны, не исчезают. Обернулся. Неподалеку, поверить трудно - подводная лодка! Но теперь на ней люди. Моряки заметили меня, поняли, что я жив, значит, есть кого спасать. Зашумели. А я уже и обрадоваться этому не в силах. Спустили на воду ялик, пробились сквозь шугу ко мне. Я еще какие-то силы в себе нашел, попытался помочь. Нелегко далась подводникам переправа меня на борт, но это была последняя трудность. Потом за меня взялись медики. Раздели, обмыли, натерли спиртом.
Тело заледенело, отсутствовала температура, обычным термометром ее невозможно было измерить. Дыхание было, как у собаки во время бега, - учащенное. И побоялись применять сильнодействующие средства - вдруг остановится сердце. Температура стала появляться часа через три с половиной. После того, как меня вторично натерли спиртом, обложили грелками, закутали в одеяла. А когда тело нагрелось до 38 градусов, начали ее сбивать.
Сразу прилетел вертолет, но решили сначала на подводной лодке подбросить меня поближе к берегу, а там уж на катере и в госпиталь. В пять утра я был уже в палате. Здесь я пришел в себя настолько, что смог вкратце доложить командованию о случившемся. Воспоминания, не скрою, давались в эти мгновения очень тяжело, врачи приостановили разговоры. Боялись, что у меня откажут почки, ведь я пробыл в ледяной воде более семнадцати часов. Решено было отправить меня во Владивосток, где имелась необходимая аппаратура. Там - сразу в реанимационную. Долго не удавалось меня усыпить. Перевозбужденный организм не хотел поддаваться. Но зато когда я заснул, меня не могли добудиться целых двое суток.
Очень помогли мне врачи, за что им огромное спасибо. Не было ни пневмонии, ни даже насморка. Никаких последствий. Помогла барокамера, нетрадиционные методы лечения, аппарат по очищению крови, «Изольда» называется. Ну и, конечно, заботы жены. Она у меня медик, сразу прилетела с Камчатки.
С рук и ног кожа вся была удалена, но ампутации конечностей удалось избежать. Врачи решили, что организм справится. И верно, через полтора месяца я начал вставать на ноги.
Ощущение было такое, что руки и ноги не свои. Заново приходилось учиться ходить, держать ложку, писать. А еще через два с половиной месяца меня выписали из госпиталя и направили в санаторий. Лечение было закончено.
На разборе встал, конечно, вопрос, почему действовали так, что большинству членов экипажа не довелось выжить. Ведь имелись же средства спасения. Скажу так. Экипаж был опытным. Мы проводили тренировки на воде, работая со спассредствами. Но тренировки проводились при нормальной для жизни температуре. Отнюдь не в условиях, приближенных к тем, в каких мы оказались. А тут еще столько непредвиденных факторов. Так и получилось, что из четверых, покинувших самолет, уцелел один. У нас, на Востоке, нет своего центра подготовки летчиков для выживания в экстремальных условиях, а подготовка такая необходима. Не сдайся, не потеряй люди надежды, заставь себя бороться с холодом, возможно, удалось бы спастись и остальным…
На этом закончилась магнитофонная запись. Фамилию летчик свою не назвал, как не назвал во время этого рассказа и имен и фамилий ни одного из погибших товарищей. Возможно, он сделал это сознательно, есть, очевидно, в этом какое-то воинское правило, а может, из-за того, что человек он скромный, в герои не рвется. Не знаю. Я решил оставить все так, не стал докапываться до истины. Но мне известно, что летчик этот и по сей день здоров, служит в летных частях, а возможно, уже и летает, судя по пережитому, силы воли и духа ему не занимать.
Есть надежда, что он откликнется, прочитав свой рассказ, захочет дополнить его новыми подробностями, и мы узнаем тогда его имя и фамилию.
Это произошло зимою 1390 г. Во время монастырской трапезы Преподобный Сергий Радонежский вдруг встал из-за стола и, сотворив молитву на глазах у изумленной братии, низко поклонился и произнес: «Радуйся и ты, пастуше стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобою». Затем он снова уселся за стол, продолжая обед.
Когда после трапезы братия приступила к нему, прося объяснить, что означает его странное приветствие, Сергий ответил:
Это Стефан-епископ, спешащий в Москву, остановился на своем пути и поклонился Святой Троице, и нас грешных благословил…
Действительно, в тот час святитель Стефан, епископ Пермский, подъезжая к Москве, вдруг вспомнил, что в стороне от его дороги остается Троице-Сергиев монастырь… Он приказал остановиться и, сойдя с повозки, сотворил молитву, а потом благоговейно поклонился в сторону обители.

Мир тебе, духовный брате! - сказал он.
Как говорит Епифаний Премудрый, поведавший эту историю в «Житии Сергия Радонежского», Преподобный «назнамена и место», где останавливался Стефан, чтобы благословить обитель, и «неции же от ученик его гнаша в нареченное место, хотящее известно уведати. Достигше же их же с епископом, вопрошаху: «Аще истина есть?»
Этот, достаточно часто цитируемый эпизод, обыкновенно трактуется исследователями только как свидетельство необыкновенной прозорливости Преподобного Сергия, тем более что это подтверждается и словами самого Епифания: «И известно уведаша истину бывшую, реченную святым, и тако дивишася о прозорливем даре, его же сподобися святый…»
Однако, как нам представляется, Епифаний не ограничивал одним только этим свидетельством значение приведенного эпизода. Неслучайно ведь автор «Жития Сергия Радонежского» и «Повести о Стефане, епископе Пермском» предваряет этот эпизод словами, что просветитель зырян имел «любовь о Христе духом премного к блаженному отцу нашему святому Сергию».

Опять же, епископ Стефан находился во время своего благословения на расстоянии «поприщ десять или вящее», и поскольку большинство исследователей склонны приравнивать здешнее поприще к версте, то расстояние получается значительное. Оно еще более возрастет, если учесть, что епископ Стефан все это время не стоял на месте, а продолжал свой путь. Дорога, таким образом, ученикам Сергия предстояла неблизкая, и едва ли Преподобный благословил бы их на такой путь, чтобы они просто еще раз удостоверились в его прозорливости. Напомним, что Преподобный подходил тогда к своему земному рубежу…
Можно, конечно, считать фигурой речи подробности о гнавшихся «в нареченное место» учениках, но, учитывая, что подобные «художественные» приемы не характерны для житийной литературы вообще и для трудов Епифания Премудрого в частности, предпочтительнее поискать иное объяснение указанному несоответствию.
Впрочем, вначале вспомним, кто был епископ Стефан и что, помимо общего биографа, связывало его с Преподобным Сергием.

Начало жизни святителя Стефана, епископа Пермского, голос которого через десятки и сотни километров ясно различал Преподобный Сергий Радонежский, приходится на 40-е гг. XIV в.
Прекрасный, наполненный грозным светом мир православия с первых дней жизни окружал Стефана. В храме, где служил его отец Симеон Храп, хранилась чудотворная икона Благовещения Божией Матери, молясь перед которой юродивый Прокопий Устюжский отвел каменную тучу от города. Тяжелый метеорит, вызвавший смерч, упал тогда в нескольких верстах от Великого Устюга.
Существует предание, что юродивый Прокопий Устюжский великую будущность крестителя Перми предсказал матери Стефана, когда той было всего три года. Он поклонился девочке в ноги и произнес:
Сие девица Мария грядет - матерь великого Стефана - епископа, учителя Пермского!
Ну а Преподобный Сергий Радонежский поднимал в детские годы Стефана на холме Маковец «церквицу малую», которая была посвящена Пресвятой Троице, дабы, как сказано в его житии, «взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира».

Мы знаем, что, хотя Троицкие храмы возводились и раньше, они возникали, как смутные предчувствия того целостного явления Троичной идеи, которое раскрылось во всей своей глубине лишь молитвенному сознанию Сергия Радонежского.
Прежние Троицкие храмы, даже если они изначально были воздвигнуты во имя Святой Троицы, должны быть рассматриваемы, как справедливо заметил Павел Флоренский, либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение истории, либо как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV в. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, становится прототипом собирания Руси в духовном единстве, в братской любви, центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни.

Этот молитвенный призыв Преподобного Сергия к единству земли Русской, во имя высшей реальности, оказался услышан. Вокруг деревянного храма Пресвятой Троицы на холме Маковец начинают собираться ученики Сергия Радонежского.
Некоторые события православного мира только спустя годы и десятилетия обретали свою значимость, но как символично, что начало подвижнической духовной и государственной деятельности Преподобного Сергия совпадает с годами младенчества будущего святителя Стефана!
Когда у князя Ивана II Красного родился сын Дмитрий (1350), Стефан уже научился читать церковные книги и начал участвовать в церковных службах.

Мы мало знаем о частной жизни русских людей XIV в. Мало сохранилось подробностей и о юности Стефана. Как свидетельствует Епифаний Премудрый, еще на заре своей юности будущий святитель осознал, что, «аки речная быстрина, или аки травный цвет», коротка и быстротечна земная жизнь…
Вероятно, произошло это, когда началась в русской земле жестокая эпидемия моровой язвы. «И опусте вся земля и порасте лесом!» - записал тогда летописец.
Захватила эпидемия и Великий Устюг, не пощадив клирошанина Симеона Храпа и его семью. А вот самого Стефана Господь уберег для предстоящего ему служения.

Нет никаких свидетельств, что решение уйти в монастырь возникло в нем сразу после смерти родителей. Более правильно, наверное, говорить, что тогда перед Стефаном встал вопрос о дальнейшем жизнеустройстве. Отец его служил в церкви, и естественно предположить, что молодой человек, научившийся, как говорит Епифаний, «в городе Устюге всей грамматической премудрости и книжной силе» и превосходно знающий церковную службу, вполне мог рассчитывать на поставление в диаконы или даже в иереи, учитывая тот страшный мор, что выкашивал тогда города. Возможно, с этой просьбой и отправился Стефан к высокопреосвященному Парфению, епископу Ростовскому, который управлял устюжскими церквами…
Напомним, что это было время, когда Сергий Радонежский и его ученики начали - не побоимся этого слова! - застраивать Русь монастырями, соединяя в единое духовное пространство самые удаленные местности нашей страны.

Поскольку пострижение Стефана, которое проводил игумен Максим прозвищем Калина, состоялось в 1365 г., можно предположить, что прибыл Стефан в Ростов на год-два раньше. И тогда получается, что появление его в Ростове Великом совпадает с приездом сюда в 1363 г. Преподобного Сергия и основанием Борисоглебского монастыря.
Хотя свидетельства, что Преподобный Сергий Радонежский и будущий святитель Стефан встречались в 1363 г., отсутствуют, но нелепо было бы утверждать, что святые, которые слышали друг друга за десятки верст, могли разойтись в Ростове Великом, никак не повлияв друг на друга.
Приезд в Ростов Преподобного Сергия Радонежского, основание Борисо-Глебского монастыря, явление святых мучеников Бориса и Глеба одновременны с появлением в Ростове осиротевшего, размышляющего над выбором жизненного пути Стефана.

Трудами и молитвами Сергия Радонежского и его учеников укреплялось тогда единство Русской земли, воссоединялось пространство ее истории, и эта духовная энергия не могла не коснуться пришельца из Великого Устюга.
Оказавшись в Ростовском монастыре святого Григория Богослова, Стефан понимает, что это и есть то место, которое уже давно искал он, и решительно оставляет поиски подходящей церковной должности.
Монастырь этот называли «Братским затвором». Находился он в центре Ростова и от города отделялся не только стенами, но и строгостью устава. Известно, что обитель славилась богатой библиотекой. С ревностью взялся Стефан за изучение священных книг. Многие из них были на греческом языке, но благодаря двуязычным архиерейским службам, уже скоро инок Стефан научился читать и греческие тексты.

«Стефан был словно дерево плодовитое, посаженное у исходящих вод и часто напояемое разумом Божественных Писаний, - пишет Епифаний, - и оттуда прорастала гроздь добродетелей, процветало благолепие, которое и плод свой дало в свое время…»
Скоро он был поставлен в диаконы епископом Арсением, затем, после кончины святителя Алексия, повелением наместника его Михаила (Митяя) - посвящен в сан иеромонаха.
13 лет провел Стефан в монастыре святого Григория Богослова…
Младшим товарищем Стефана в «затворе» оказался будущий создатель его жития - Епифаний Премудрый. От Епифания и известно нам, сколь упорным и сосредоточенным был будущий святитель при «поглощении» книг в стремлении понять и прочесть как можно больше.
В Ростовском монастыре святого Григория Богослова, подобно славянским просветителям Кириллу и Мефодию, совершает будущий святитель Стефан свой первый подвиг - создает азбуку пермского языка.
Как создать алфавит для безписьменного народа? Чтобы стать неотторжимой частью его, алфавит должен рождаться из самого языка. Поэтому Стефан хотел, чтобы само начертание Слова Божия было родным для пермяков. Но зыряне знали тогда лишь одну письменность - зарубки на деревьях, которые оставляли охотники, обозначая свои участки.
На эти знаки и стали похожи Стефановы буквы. Как зарубками на деревьях, дорогу в нехоженой тайге, записал Стефан этими буквами переводы святого Евангелия и других церковных книг, которые понадобятся ему в святительском служении.
Гигантский труд создания пермской письменности Стефан завершил в 1377 г., когда перевел на язык коми Евангелие и основные богослужебные книги.
В 1378 г. епископ коломенский Герасим, который и поставлял Стефана в иеромонахи, благословил его на предстоящий подвиг.
Легендами и преданиями окутан путь Стефана по Пермской земле…
Легенда утверждает, что, пытаясь остановить продвижение Стефана по Пермской земле, зырянские кудесники сожгли лодку святителя. Но и это не остановило его. Встав на прибрежный валун, поплыл он по Вычегде, держа икону в руках. Этот Стефанов валун и сейчас еще покажут вам в деревне Эжолты.
И сейчас еще проведут вас в Усть-Выми на холм, где срубил Стефан «прокудливую» березу - главную святыню зырян. Предание рассказывает, что после каждого удара топора святителя струилась из дерева смрадная кровь.
Стефан, Стефан, зачем ты нас гонишь отсюда, здесь наше древнее пребывание! - мужскими и женскими, старческими и младенческими голосами плакала «прокудливая» береза.
Падая, она коснулась верхушкой речной воды и, как утверждает легенда, Вымь отошла от холма, изменив свое русло.
Это предание…
Но смотришь на срезанный современной дорогой устьвымский холм, разглядываешь характерную для аллювиальных отложений слоистость - и кружится голова, словно наклоняешься над пропастью времени…
Когда-то река действительно текла здесь, и если во времена Стефана Великопермского верхушка срубленной березы коснулась речной воды, то за эти 600 лет река отошла от украшенного церквами высокого холма точно на 600 с небольшим метров. Как раз по метру в год…
Разрушая языческие капища и строя новые церкви, Стефан поднимался вверх по Вычегде, и с его появлением изменялось само течение времени на зырянской земле.
До Стефана сознание здешних жителей, поддерживающих культ предков, замыкалось на недавнем прошлом, в котором жили деды и прадеды. «И только приняв водное Крещение, - пишет современный исследователь, - они обрели будущий день, а также библейское прошлое. Погрузившись в реку христианской истории, они увидели тут же, рядом с собой, и пророков, и апостолов, и первых мучеников христианских, и Авеля, и Каина, и первого человека Адама…»
Здешние события уже не смешивались в скопище случайностей, а превращались в Историю, наполненную смыслом и сокровенной красотой. Это преображение зырянского народа совершал своей проповедью святитель Стефан…
Однако проповедь его не приводила к разрушению зырянского этноса, напротив, она способствовала еще более полному развитию в православии и в русскости национальной самобытности зырян.
И вот пройдут столетия, и так же, как святитель Стефан, уйдут из Великого Устюга землепроходцы Семен Дежнев и Василий Поярков, Ярофей Хабаров и Владимир Атласов, которые станут городами и краями, проливами и горными хребтами на карте нашей необъятной Родины. И хотя, отправляясь в походы, они ставили перед собою сугубо материальные цели, но все они шли по пути, намеченному святителем Стефаном, и поэтому столь великими, несравнимыми ни с какими материальными приобретениями, становились их свершения, поэтому столь успешным и значимым становился их труд в соединении в духовном единстве и братской любви разрозненных народов в единое и нерушимое Российское государство.
По сути именно святителем Стефаном, епископом Пермским, закладывались и
Щедро и разнообразно одарил Господь святителя Стефана. Создание азбуки свидетельствует о его блестящих способностях ученого-лингвиста, а ведь кроме этого он был еще и одаренным иконописцем, писателем, проповедником, строителем, организатором.
Как бесценный дар, как высшее воплощение святительской любви, как свидетельство произошедшего преображения стала написанная самим Стефаном икона, называемая сейчас «Зырянской Троицей»…
Запечатлевая ветхозаветную встречу, произошедшую в тени Мамврийского дуба, святитель Стефан вел своих прихожан на самую великую встречу - со Святой Троицей. Чтобы подчеркнуть спасительный характер проповедуемого христианства, святитель поместил на престоле перед Ангелами вместо трех чаш лишь одну Чашу Причастия, а в центре иконы изобразил Мамврийский дуб с тремя ветвями, наглядно и просто иллюстрируя непостижимую сущность Бога Единого в Трех Лицах.
В иконе «Зырянская Троица», как и во всей святительской деятельности Стефана, зримо отразилась и новая выдвинутая Сергием Радонежским объединительная идея, которая одна только и могла соединить разрозненные народы в единую Святую Русь.
Разумеется, некорректно сравнивать созданную святителем Стефаном Великопермским икону с гениальным произведением Андрея Рублева, наполненным поразительной гармонией золотистых, васильковых и нежно-зеленых красок, но вместе с тем стоит отметить, что в композиционном плане - Чаша Причастия вместо обыкновенно изображаемой еды, сами фигуры Ангелов, то, как они соприкасаются крыльями, составляя единую завесу, - почти на четверть века предваряет видение Святой Троицы, открывшееся преподобному Андрею Рублеву в 1410-1420 гг.
Как писал П.А. Флоренский, Преподобного Сергия Радонежского интересовали паламитские дискуссии, касающиеся абсолютности Пресвятой Троицы, для осведомленности в них он даже посылал в Константинополь своего доверенного представителя.
Чем-то подобным этому «доверенному представителю» представляются нам и «неции же от ученик» святого, гнавшиеся за епископом Стефаном «в нареченное место», чтобы, догнав его, задать вопрос: «Аще истина есть?»
На миниатюрах, помещенных в составленном Епифанием житии Сергия Радонежского, икона Троицы возникает в келье Преподобного не сразу. Как отмечали многие исследователи, это можно считать свидетельством того факта, что икона Святой Троицы, а вернее ее образ, который и был в дальнейшем воспринят Андреем Рублевым, возник именно в ходе земной жизни Преподобного.
«Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые создается в Киевской Руси, с самым ее возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, - пишет П.А. Флоренский, - то икона Троичная, дотоле неизвестная миру, появляется впервые в Московский период Руси, опять-таки в самом его начале, и художественно воплощает духовное созерцание служителя Пресвятой Троицы - Сергия».
Добавив тут, что Троичная икона воплощает также и духовное созерцание современника и сподвижника Преподобного Сергия, святителя Стефана Великопермского, можно было бы и завершить наш рассказ, но параллель между двумя иконами-«воплощениями» протянулась и в наши дни, и об этом тоже нужно сказать.
Рублевская «Троица» находится сейчас, как известно, в Третьяковской галерее, и даже разговоры о том, чтобы хотя бы на праздник привезти ее в Троицкий собор Лавры, для которого она и была написана, вызывают у музейных работников оторопь.
Ну а иконе, написанной святителем Стефаном Великопермским для Троицкой церкви погоста Вожема, и которая находится сейчас в экспозиции древнерусского искусства художественного отдела Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, тоже был нанесен серьезный ущерб, разрушивший ее защитный слой. По причине непрочности основания «Зырянскую Троицу» лишь однажды экспонировали вне музея, после очередной реставрации…
Вопрос о том, почему иконы, перед которыми столетиями изо дня в день возжигались лампады и свечи, иконы, которые прошли пожары, наводнения и разрухи, иконы, которые выносили навстречу летящим в них стрелам и пулям, сделались вдруг рассыпающимися от малейшего колебания температуры всего за несколько десятилетий музейного хранения и изучения, безусловно, нуждается в осмыслении.
"Зырянская Троица": от почитания до забвения / Одна из главных национальных реликвий коми народа уже более века находится в Вологде Одной из самых известных национальных реликвий коми народа считается икона «Зырянская Троица», по преданию написанная крестителем Коми края святым Стефаном Пермским. С XIV века она украшала иконостас церкви в селе Вожем недалеко от нынешнего села Яренск, населенного в предыдущие века коми-зырянами. В начале XIX столетия почитаемый образ поменял привычное место, был вывезен в Вологду, где продолжает находиться по сей день. За век с лишним, как икона «обосновалась» в соседнем с Коми краем городе, в ее судьбе произошли различные перипетии, а отношение к ней варьировалось от почитания до полного забвения. Все это удалось подробно проследить и изучить старшему научному сотруднику Вологодского историко-краеведческого и художественного музея-заповедника Елене Виноградовой, чью публикацию и предлагаем нашим читателям. Кто же автор находки? Икона конца XIV века «Святая Троица Ветхозаветная (Зырянская)» из коллекции Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ВГИАХМЗ) с XIX века до наших дней является предметом устойчивого интереса лингвистов, историков и искусствоведов. Это одно из немногих сохранившихся свидетельств миссионерской деятельности свт. Стефана, епископа Пермского (1383-1396 гг.), чья проповедь христианства звучала среди коми-зырян, пребывавших в язычестве и не имевших своей письменности. Результатом подвига свт. Стефана стало не только крещение значительной части населения, проживавшего по рекам Вычегде и Сысоле, но и создание зырянской письменности, древнейший образец которой сохранился в нижней части средника иконы «Святая Троица Зырянская». История бытования и почитания этого широко известного памятника остается неясной, в связи с чем попытаюсь сопоставить связанное с иконой предание и факты, подтвержденные документами из Государственного архива Вологодской области, собраний ВГИАХМЗ и Великоустюжского государственного музея-заповедника. Интерес к культуре зырян, их быту, верованиям и в первую очередь к зырянской письменности усилился в конце XVIII столетия. Академику И.Лепехину, обследовавшему в 1771 г. селения на реках Лузе, Сысоле и Вычегде, не удалось найти ни одного памятника зырянской письменности. Стали известны лишь названия пермских букв, записанные по-русски. Казалось, что зырянская азбука безвозвратно утрачена вместе с христианскими книгами, которые свт. Стефан перевел на зырянский язык. В 1788 г. удача улыбнулась устюжскому штабс-лекарю академику Я.Фризу, узнавшему об уникальной иконе Святой Троицы с зырянскими надписями в Троицкой церкви (ныне не существует) села Вожем Зырянской волости, расположенной в 30 верстах от города Яренска. К тому времени никто из зырян не смог прочесть написанный по-зырянски текст - стефановская письменность была уже полностью забыта. Заявив о древности существующей на этом месте церкви и отнеся ее постройку ко времени жизни первого пермского епископа, Фриз «для уважения своей находки» написал, что икона вложена в церковь самим святителем. В многочисленных публикациях XIX-XX вв. содержатся сведения о написании иконы свт. Стефаном для вожемской Троицкой церкви во время его последней поездки в Москву в 1395-1396 гг. Но это предание вызывало сомнения еще в начале XIX века. Евгений (Болховитинов), епископ Вологодский в 1808-1813 гг., писал: «Кем и когда писана вожемская Троицкая икона и от кого тамошней церкви досталась, никаких нет сведений, ни признаков по самой иконе, кроме народных преданий о троекратном чудесном ея перенесении из цилибинской Рождественской церкви». Епископ Евгений считал сообщение о вложении иконы в вожемскую Троицкую церковь свт. Стефаном Пермским «выдумкой» Фриза. Эта «выдумка» со временем обрастала новыми подробностями, и, по мнению епископа Евгения, в результате домысла другого «мечтателя» появилось сообщение о написании образа самим свт. Стефаном, об иконописных трудах которого нет сведений ни в Житии, написанном через год после его преставления в 1396 г. лично знавшим святителя иеродиаконом Епифанием Премудрым, ни в каких-либо других сохранившихся источниках. Более скромную роль в создании иконы отводит свт. Стефану Пермскому автор «Описания Вологодского архиерейского дома» 1898 г. Перечисляя важные дела Вологодского и Устюжского епископа Арсения (Тодорского) (1796-1802 гг.), он сообщает о перенесении в вологодский кафедральный собор древней иконы Св. Троицы «с надписью на ней зырянскою, писанною, по преданию, св. Стефаном, просветителем зырян». На рубеже XIX-XX столетий в описание святынь епархии наряду с образом Св. Троицы, находившейся в то время в Воскресенском соборе Вологды, включаются сообщения о других произведениях свт. Стефана с зырянскими и славянскими надписями: икона «Сошествие Святого Духа» из той же вожемской церкви с надписью «пермскими письменами» 4 стихов 2-й главы Деяний апостолов; икона «Святитель Николай Мирликийский» в Михайло-Архангельской шошкинской церкви; крест с живописным изображением Голгофского Креста в часовне, существующей более 300 лет близ деревни Крестовская Яренского уезда, и чудотворная икона «Спас Нерукотворный» в Спасской иртовской церкви Яренского уезда. Точка не поставлена Икона «Спас Нерукотворный» была одной из наиболее почитаемых. В нижней части иконы имелась надпись церковно-славянской вязью: «Нерукотворный образ Христов». После исцелений от этой иконы в честь Нерукотворного образа Спасителя была построена в 1642 г. деревянная церковь, а в 1746-1754 гг. - каменная. Подробное повествование об иконе и ее прославлении содержалось в хранившейся при иртовской церкви «особой большой рукописи», где было описано до 150 чудес. Благоговением к святыне объясняется значительное количество церквей и престолов в честь Нерукотворного образа Спасителя в Зырянском крае. Предания об иконе «Святая Троица Зырянская», по-видимому, появились в XIX веке. Можно предположить, что они не были известны ни епископу Арсению (Тодорскому), перевезшему икону в епархиальный центр, ни занявшему место на Вологодской кафедре через 6 лет после него Евгению (Болховитинову), знавшему о существовании других икон с зырянскими надписями. Сбором преданий и поверий во второй половине XIX века занимались члены постоянной церковно-археологической комиссии при вологодском обществе Всемилостивого Спаса и привлеченные ими для составления описаний «замечательных по древности храмов епархии» краеведы, путешествовавшие по епархии миссионеры. Сведения, связывавшие церковные реликвии с именем свт. Стефана Пермского, могли быть взяты из сообщений приходских священников, собранных для церковно-исторического и статистического описания церквей епархии. Так, например, преподаватель усть-сысольского уездного училища М.Михайлов сообщал о существовании в Яренском уезде сказания о кресте с резной надписью, изготовленном и поставленном свт. Стефаном Пермским в часовне при Троицкой церкви в Удоре. «К кресту до сих пор не прикоснулась разрушительная сила тления, и, как утверждают местные жители, сгорело много часовен, но крест оставался цел и невредим». Михайлов считал, что надпись на кресте во многих местах «сгладилась», и невозможно понять, на русском или зырянском языке она выполнена. В церковно-историческом и статистическом описании усть-сысольской Благовещенской церкви Яренского уезда 1854 г. содержится острая критика в адрес этого автора: «Господин Михайлов говорит, что будто бы крест в часовне при веслянской Троицкой церкви в Удоре, которая до учреждения штатов была пустынею, поставлен святым Стефаном самим, но в этой ошибке обличает его сама подпись на кресте. Он поставлен около 7070 (1562) года». К сожалению, авторы статистического описания не приводят точную надпись на кресте, видимо, по причине многочисленных потертостей, затрудняющих ee прочтение. Тем не менее сам факт выражения недоверия Михайлову свидетельствует о том, что данное предание не имело широкого распространения в крае. Вопрос об авторе иконы «Святая Троица Зырянская» на сегодняшний день нельзя считать закрытым. Г.И.Вздорнов предполагает, что икона была написана великоустюжским мастером. А.А.Рыбаков, относя памятник к великоустюжскому иконописному центру, находил возможным, что творения уроженца Великого Устюга свт. Стефана, прошедшего выучку в Ростове Великом, могли стать началом распространения ростовской художественной традиции в северных землях. Однако отсутствие икон этого периода с документально подтвержденным устюжским происхождением лишает данную научную гипотезу необходимых доказательств. Подлинник и копия «Дорожные заметки» П.И.Савваитова и описание церкви во имя преподобного Симеона Столпника в Великом Устюге, составленное протоиереем устюжского Успенского собора А.М.Поповым, содержат описание копии иконы «Святая Троица Зырянская», находившейся у правого столба трапезной Симеоновской церкви. На обороте иконы была помещена запись о создании копии: «Сей образ Святыя Троицы Живоначальныя снят с подлиннаго зырянскаго образа, находящагося Яренской округи Вожемской волости в Троицкой старинной деревянной церкви. Оный, по словесным народным сказкам, якобы писан собственными рукама святаго Стефана, епископа Великопермскаго, в то время, когда он, плывши но реке Вычегде обратно из Перми в Москву, по причине ненастной погоды остановился на правом берегу, ниже Яренска в 30 верстах, и в знак своего пребывания там приказал построить церковь и сей образ в оную приложил». К сожалению, ни дата создания списка, ни его местонахождение в настоящее время неизвестны. Фриз, сообщая об иконе из вожемской Троицкой церкви в «Летописи города Устюга» 1793 г., не упоминает о существовании списка: «Ныне же в одной только зырянских селений церкве ниже Яренска в 30-ти верстах находится образ, приложен самим оным Стефаном, епископом Пермским, при последнем его отшествии в Москву, почему и хранится оный при той церкви для вечной его памяти». Поскольку из надписи на обороте иконы следует, что подлинник на время создания копии находился в деревянной церкви, просуществовавшей до 1797 г., можно предположить, что список сделан между 1793 и 1797 гг. Представляется маловероятным его создание раньше обнаружения подлинника в 1788 г., хотя версия о великоустюжском списке как источнике информации для Фриза о местонахождении подлинника также достойна внимания. Если верить имеющемуся в надписи сообщению о нахождении «Святой Троицы Зырянской» в вожемской церкви, то список должен был появиться раньше перенесения иконы в Вологду, а поводом к его написанию вполне могло быть особое почитание устюжанами святителя в его родном городе. В таком случае письменное подтверждение предания о свт. Стефане как создателе иконы Святой Троицы заставляет усомниться в справедливости критики неизвестного «мечтателя» епископом Евгением (Болховитиновым). Последний не только знал о существовании копии, но и лично видел этот список, отмечая в своем труде лучшую сохранность надписей на нем, нежели на подлиннике. Если же создание устюжской копии, наоборот, явилось результатом преподнесения Фризом своей находки как уникального творения свт. Стефана и относится к последнему десятилетию XVIII века, то надпись на ней вполне может содержать упоминание о предании, появившемся вовсе не в народной среде. Время создания иконы относится к периоду особого почитания Св. Троицы, ставшей символом единения Руси. С первой половины XVI века в честь Св. Троицы освящается множество храмов и монастырей, появляется большое количество икон. В отличие от большинства изображений второй половины XIV века в сюжете «Святой Троицы Зырянской», автор которой принадлежал к кругу свт. Стефана Пермского, ощутимо стремление к цельности групп, к глубинному воплощению догмата о Триедином Божестве. Четыре века спустя Икона «Святая Троица Зырянская» оставалась в Троицкой церкви села Вожем до начала XIX в., хотя уже в 1571 г. архиерейская резиденция окончательно была перенесена в Вологду. По-видимому, образ не был широко известен, а вожемская церковь не являлась местом массового паломничества. Вологодские архиереи обратили на икону особое внимание лишь благодаря любознательности Фриза, который в 1788 г., оценив уникальный памятник истории и культуры, передал копию надписи на иконе в Императорскую Академию наук и внес предания об иконе в Устюжскую летопись. Все исследованные источники кратко информируют о переносе иконы в Вологду при епископе Арсении (Тодорском). Во вступительной статье В.И.Буганова и Л.Н.Смоленцева к переизданию книги Г.С.Лыткина «Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык 1383-1501» описаны подробности этого события: Вологодский епископ Арсений «сам поплыл к иконе, побывал в Усть-Сысольске, уговорил вычегодцев отдать бесценную редкость во владычную ризницу, довольствуясь на Вычегде списком (копией) с творения святителя земли Пермской», ссылки на источник отсутствуют. В Вологодском иллюстрированном календаре 1894 г. и в публикациях В.К.Лебедева 1900 и 1909 гг. приведена точная дата перенесения иконы - 1790 г., которая, по всей вероятности, является ошибочной, поскольку не совпадает со временем пребывания на Вологодской кафедре епископа Арсения, в то время как все известные источники относят событие именно к его деяниям. Бытовало предание о том, что икону пытались переносить и раньше, но все попытки оставались безуспешными. Г.Лыткин писал, что «новгородские переселенцы Осколковы, жившие в Цилибе против Вожема, три раза уносили этот образ в свое селение, но он чудесно возвращался в Вожем». На украшение святыни Г.С.Лыткин сообщает, что икона была помещена Преосвященным Арсением в Софийском кафедральном соборе на правой стороне, против епископского места. Хотя это точное указание расположения иконы является единственным, мне оно кажется убедительным по нескольким причинам: автор правильно описывает расположение епископского места в Софийском соборе, находившегося с восточной стороны первого южного столба; о нахождении иконы «Святая Троица Зырянская» в Софийском соборе косвенно свидетельствуют документы об украшении ее серебряной ризой при епископе Онисифоре (Боровике) (1814-1827 гг.), «сделанной на пожертвованные лучшими здешними чиновниками и гражданами деньги», и деловая переписка протоиерея Софийского собора В. Нордова с епископом Евлампием (Пятницким) (1844-1852 гг.) в 1846-1848 гг. о поновлении иконы. В приходной книге Софийского собора 1828-1830 гг. зафиксирован сбор средств на украшение святыни с января 1828 по март 1829 г., хотя серебряных дел мастеру И.М.Зуеву, изготовившему ризу для иконы, была выплачена полная сумма за серебро и работу 1530 рублей 13 копеек с января по июнь 1828 г., а в «реестре прибылых вещей» оклад значится уже 30 октября 1827 г.: «Сделана по дозволению Его Преосвященства данному в сентябре месяце сего года из пробнаго серебра 14 фунтов 55 золотников риза на икону Живоначальныя Троицы, писанную первым вологодским архиереем Стефаном, епископом Пермским». В приходной книге отмечены также пожертвования на украшение иконы госпожи Шипиловой с детьми, городского головы купца Н.И.Скулябина, купеческой жены Е.П.Витушечниковой, купеческой дочери М.Н.Белозеровой и других лиц, вносивших деньги лично, а также через вологодского купца В.И.Грудина и мещанина Н.Шанькова. Возможно, в сборе средств участвовали и граждане, которые не жили в Вологде. Риза, исполненная Зуевым в октябре 1827 г. из пробного серебра, весила 14 фунтов 55 золотников, таким образом, стоимость серебра составила 432 рубля, а работа известного вологодского мастера была оценена в 1098 рублей 13 копеек. Тем не менее, как следует из донесения В.Нордова и ключаря А.Сорокина епископу Евлампию (Пятницкому), в январе 1834 г., на седьмой год после создания, «ризу с этой иконы, по резолюции бывшего Преосвященного Стефана, сняли и продали». Какова причина тому, можно только догадываться: была ли риза заменена другим окладом, или настолько патинировалась в неотапливаемом Софийском соборе, что совершенно утратила первоначальный вид, или архиерей нуждался в средствах на возобновление Воскресенского собора. В приходо-расходной книге Софийского собора за январь 1834 г. имеется следующая запись: «Внесено эконому Вологодскою архиерейского дома отцу игумену Израилю вырученных... от продажи соборного ветхого неупотребляемого серебра денег 4545,60 руб.». Поскольку представляется маловероятной продажа в качестве лома ризы, стоимость работы над которой в 2,5 раза больше стоимости использованного материала, хочется высказать предположение, что оклад был передан на один из списков иконы - в Вожем или Великий Устюг, но оба памятника на сегодняшний день не сохранились, и данная версия не подтверждается документами. Без ризы и без почтения К началу 40-х гг. XIX века история перенесения иконы была забыта, особым почитанием она не пользовалась и находилась в ризнице среди неучтенных старых икон. Можно предположить, что икона была убрана в ризницу еще до снятия драгоценного оклада или одновременно с ним. Во всяком случае, она вряд ли могла оставаться после этого на своем месте перед иконостасом (при всем уважении к решению епископа факт продажи устроенной «всем миром» ризы не стали бы делать достоянием широкой общественности на памяти одного поколения). Свидетельства о перенесении иконы епископом Иннокентием (Борисовым) (1841-1842 гг.) в архиерейский дом имеются в уже упоминавшемся донесении протоиерея В.Нордова, а также в путевых записках М.П.Погодина, посетившего Вологду в 1841 г., где он молился перед древней святыней: «Проснулся в прекрасной огромной комнате, только что отделанной и назначенной быть кабинетом Преосвященного. Окон 12 на три стороны. Из одних виден собор, из других поле и часть города. В углу передо мною стоял большой образ Троицы, древнего письма. Подхожу к нему... что же... Это тот исторический образ с зырянской подписью, о котором столько было написано в статье Евгения (Болховитинова - Е.В.) «О древностях вологодских и зырянских», в «Вестнике Европы» 1815 или 1814 г. Подпись составляет почти единственный памятник зырянского письма. Как археолог, помолился перед ним с большим усердием». Судя по документам середины XIX в., икона не пользовалась к этому времени особым почитанием. Во всяком случае, на запрос Преосвященного Евлампия (Пятницкого) в 1846 г. о судьбе образа удовлетворительного ответа не последовало. Из донесения епископу Евлампию от 4 сентября 1846 г. следует, что иконы не было в кафедральном соборе с начала 1840-х гг. и как чтимая святыня она не передавалась Преосвященному Евлампию, вступившему на Вологодскую кафедру в 1844 г.: «Сим Вашему Преосвященству почтеннейше доносим, что при здешнем кафедральном соборе оная икона Св. Троицы хотя действительно находилась, как частно нам известно, но при поступлении нашем на службу во оный собор в сентябре 1841 г. иконы той в соборе уже не оказалось... Где же теперь находится сия икона, нам неизвестно, равно можем сказать ничего ни в рассуждении исторического начала этой иконы, ни касательно того, давно ли и как перешла она в Софийский собор». Епископ Евлампий наложил на это донесение следующую визу: «Справить на месте первоначальной епископии святителя Стефана, просветителя перми-зырян, в усть-вымской церкви потом каких сведений об этой иконе Святой Живоначальной Троицы с зырянской надписью. Как икона Святой Живоначальной Троицы отыскалась в ризнице при архиерейском доме, как краски на ней довольно потеряли вид и цвет, то эконом дома пригласит искусного иконописца и уговорится с ним о поновлении оной иконы с удержанием во всей точности писания ее, кроме освежения и отлакирования красок. О последующем донести». Забвению не подлежит В качестве поновителя иконы «Святая Троица Зырянская» был выбран А.П.Поваров - крестьянин села Коровничьего вотчины Спасо-Прилуцкого монастыря, известный как иконописец и монументалист. Порученную работу мастер выполнил к 21 мая 1848 г., после чего епископ Евлампий отдал распоряжение выдать Поварову 10 рублей ассигнациями из церковной домовой суммы. Поновленная икона была установлена на правой стороне в трапезной Воскресенского кафедрального собора. Такое ее месторасположение отмечено в Вологодском иллюстрированном календаре 1894 г., где икона включена в список главных святынь Вологды с описанием особенностей образа: «Над изображением Авраама, Сарры и каждого из трех ангелов значатся надписи зырянскаго письма; внизу иконы еще видны шесть строк такого же начертания». В Воскресенском соборе образ «Святая Троица Зырянская» отмечали среди «замечательных» икон краеведы И.Н.Суворов, В.К.Лебедев, Г.К.Лукомский. Однако ни один из авторов не сообщил о наличии на ней в этот период оклада или каких-либо других украшений. В то же время И.К.Степановский отмечал как главную достопримечательность Воскресенского собора единственную икону - Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», ничего не сообщая о находившемся в соседнем киоте образе «Святая Троица Зырянская», который был скорее яркой достопримечательностью Вологды, нежели чтимым чудотворным образом. Во всяком случае, в сообщении епископа Вологодского и Тотемского Израиля (Никулицкого) (1888-1894 гг.) в Святейший Синод 21 декабря 1893 г. образ не отмечен в числе особо чтимых святынь епархии. Последнее пристанище Икона оставалась в Воскресенском соборе Вологды до 1928 г., хотя регистрация памятников, имеющих художественно-историческое или археологическое значение, велась с начала 1920-х гг. Иконы, зарегистрированные в действовавших церквах и соборах, как правило, оставались на своих местах, они поступали в музейную коллекцию, если это были уникальные произведения, нуждавшиеся в срочной реставрации либо в особой охране. Так в 1928 г. поступила в Вологодский музей и икона «Святая Троица Зырянская». 4 июля 1928 г. в президиум церковного совета Воскресенского собора было направлено письмо Управления по музейным делам губернского отдела народного образования с требованием выполнения консервационно-реставрационных работ на памятнике за счет церковной общины: «Вологодский губмузей просит произвести расчистку и укрепление иконы «Зырянская Троица», находящейся в трапезной Воскресенского собора, причем означенная работа должна быть поручена мастеру Брягину и произведена за счет самой общины». Времени на раздумья у церковного совета было немного: 10 июля 1928 г. икона была передана в музей «для научного обследования путем пробной расчистки и методом сравнения стилистических и иконографических признаков с другими памятниками, находящимися в самом музее». Акт передачи не позволяет судить о том, как произошло перемещение иконы. Возможно, церковная община приняла условия властей и передала икону в музей на реставрацию, но закрытие собора в 1938 г. решило вопрос о смене владельца памятника. Сведения о реставрации иконы в 1930-1940-х гг. отсутствуют. Окончательная реставрация памятника была выполнена во Всесоюзной центральной научно-исследовательской лаборатории консервации и реставрации (ВЦНИЛКР) Е.М.Кристи. По акту от 17 января 1968 г. икона была передана для дополнительной расчистки и склейки доски в следующей сохранности: «Доска расколота, не снята олифа в левом нижнем углу, выпады красочного слоя, фрагмент поздней записи, имеются карандашные надписи на иконе». Работы были закончены в 1973 году. С 1985 г. памятник находится в экспозиции древнерусского искусства художественного отдела ВГИАХМЗ. Слабое основание иконы (доски склеены, шпоночного крепления нет) требует особенно бережного обращения с ней при экспонировании и транспортировке. Поэтому икона лишь однажды экспонировалась вне музея - на выставке «Живопись Вологодских земель» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в Москве в 1976 году. Правительство Республики Коми не раз обращалось в ВГИАХМЗ с просьбой о передаче памятника на постоянное хранение в республиканский Национальный музей, но ходатайство это не было удовлетворено по причине особой значимости иконы для вологодской культуры. В 1990-х гг. были выполнены две копии образа художниками-реставраторами ОАО «Купина» (Москва) и И.Н.Федышиным. Первая копия установлена в настоящее время в Свято-Вознесенском соборе Сыктывкара, нынешнего епархиального центра земель, где звучала проповедь свт. Стефана Пермского. Вторая копия находится в личных покоях архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана. Елена ВИНОГРАДОВА.