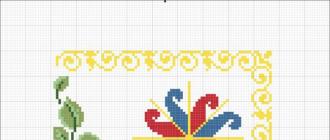Сочинение Пушкин А.С. - Историческая тема в творчестве Пушкина
Тема: - Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина
Высшая и истинная цель изучения истории состоит не в заучивании дат, событий и имен - это лишь первая ступень. Историю изучают, чтобы понять ее законы, разгадать какие-то сущностные черты характера народа. Идея, закономерности событий истории, их глубокой внутренней взаимосвязи пронизывает все творчество Пушкина. Попытаемся, анализируя творчество Пушкина, понять его историко-философскую концепцию.В раннем творчестве Пушкина нас очаровывают "Руслан и Людмила", "Песнь о Вещем Олеге". Древняя Русь времен князей Владимира и Олега воссоздается в красочных, полных жизни картинах. "Руслан и Людмила" - сказка, "Песнь о Вещем Олеге" - легенда. То есть, автор стремится осмыслить не саму историю, а ее мифы, легенды, сказания: понять, почему сохранила народная память эти сюжеты, стремится проникнуть в строй мыслей и языка предков, найти корни. Эта линия получит дальнейшее развитие в пушкинских сказках, а также во многих лирических и эпических произведениях, где через нравы, речь и характеры героев поэт подойдет к разгадке особенностей русского характера, принципов народной морали - и так будет постигать законы развития истории России.Реальные исторические фигуры, привлекавшие внимание Пушкина, обязательно находятся на переломе эпох: Петр I, Борис Годунов, Емельян Пугачев. Вероятно, в момент исторических переустройств как бы обнажаются "скрытые пружины" механизма истории, лучше видны причины и следствия - ведь в истории Пушкин стремится понять именно причинно-следственную взаимосвязь событий, отвергая фаталистическую точку зрения на развитие мира.Первым произведением, где читателю открылась концепция Пушкина, стала трагедия "Борис Годунов" - одно из высших достижений его гения. "Борис Годунов" - трагедия, так как в основе сюжета лежит ситуация национальной катастрофы. Литературоведы долго спорили о том, кто главные герой этой трагедии. Годунов? - но он умирает, а действие продолжается. Самозванец? - и он не занимает центрального места. В центре внимания автора не отдельные личности и не народ, а то, что со всеми ними происходит. То есть - история. Борис, совершивший страшный грех детоубийства, обречен. И никакая высокая цель, никакая забота о народе, ни даже муки совести не смоют этого греха, не остановят возмездия. Не меньший грех совершен и народом, позволившим Борису вступить на трон, более того, по наущению бояр, умолявшим: Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!Будь наш отец, наш царь! Умоляли, забыв о нравственных законах, по сути, глубоко равнодушные к тому, кто станет царем. Отказ Бориса от трона и мольбы бояр, народные молитвы, открывающие трагедию, подчеркнуто неестественны: автор все время акцентирует внимание на том, что перед нами сцены государственного спектакля, где Борис якобы не хочет царствовать, а народ и бояре якобы без него погибнут. И вот Пушкин как бы вводит нас в "массовку", играющую в этом спектакле роль народа. Вот какая-то баба: то укачивает младенца, чтоб не пищал, когда нужна тишина, то "бросает его обземь", чтоб заплакал: "Как надо плакать, Так и затих!" Вот мужики трут глаза луком и мажут слюнями: изображают слезы. И здесь нельзя не ответить с горечью, что это безразличие толпы к тому, что творится во дворце, очень характерно для России. Крепостное право приучило народ к тому, что от его воли ничего не зависит. В площадное действо "избрания царя" вовлечены люди, образующие не народ, а толпу. От толпы нельзя ждать благоговенья перед моральными принципами - она бездушна. Народ же - не скопище людей, народ - это каждый наедине со своей совестью. И гласом совести народной станут летописец Пимен и юродивый Николка - те, кто никогда не мешается с толпой. Летописец сознательно ограничил свою жизнь кельей: выключившись из мирской суеты, он видит то, что невидимо большинству. И он первым скажет о тяжелом грехе русского народа: О страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили: Владыкою себе цареубийцу Мы нарекли. И что самое главное - он, Пимен, не был на площади, не молил ":отец наш!" - и все же разделяет с народом вину, несет крест общего греха равнодушия. В образе Пимена проявляется одна из прекраснейших черт русского характера: совестливость, обостренное чувство личной ответственности. По мнению Пушкина, личность, реализуя свои замыслы, вступает во взаимодействие с объективными законами мира. Результат этого взаимодействия и творит историю. Получается, что личность действует и как объект, и как субъект истории. Особенно явно эта двойная роль проявляется в судьбах "самозванцев". Самозванец Григорий Отрепьев наперекор всему стремится изменить свою судьбу, удивительно отчетливо ощущает двойственность своего положения: он и безвестный чернец, силой собственной воли, смелости, превратившийся в таинственно спасенного царевича Дмитрия, и предмет политических игр: ":я предмет раздоров и войны", и орудие в руках судьбы. Другой пушкинский герой - самозванец Емельян Пугачев неслучайно соотносит себя с Отрепьевым: "Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою". Слова Пугачева "Улица моя тесна: воли мне мало" очень близки к стремлению Григория не просто вырваться из монастырской кельи, но вознестись на московский престол. И все же у Пугачева совершенно иная историческая миссия, чем у Григория: он стремится реализовать образ "народного царя". В "Капитанской дочке" Пушкин создает образ народного героя. Сильная личность, незаурядный человек, умный, широкий, умеющий быть добрым - как пошел он на массовые убийства, на бесконечную кровь? Во имя чего? - "Воли мне мало". Стремление Пугачева к абсолютной воле - исконно народная черта. Мысль, что абсолютно свободен только царь, движет Пугачевым: свободный народный царь и подданным принесет полную свободу. Трагедия в том, что герой романа ищет в царском дворце то, чего там нет. Более того, за свою волю он платит чужими жизнями, а значит, и конечная цель пути, и сам путь - ложны. Поэтому и гибнет Пугачев. "Капитанскую дочку" Пушкин создает как народную трагедию, и Пугачева он осмысливает как образ народного героя. И поэтому образ Пугачева постоянно соотносится с фольклорными образами. Его личность спорна, но как "народный царь" Пугачев безупречен. До сих пор я говорил о тех произведениях Пушкина, где история исследуется в момент перелома, смены эпох. Но историческое событие длится гораздо дольше этого момента: оно чем-то подготавливается изнутри, как бы назревает, затем свершается и длится столько, сколько продолжается его влияние на людей. В явности этого длительного влияния на судьбу людей мало что сравнится с петровскими переустройствами страны. И образ Петра I интересовал, увлекал Пушкина всю жизнь: поэт осмысливал его во многих произведениях. Попробуем сопоставить образы Петра из "Полтавы" и из "Медного всадника"."Полтава" написана в 1828 году, это первый опыт исторической поэмы у Пушкина. Жанр поэмы - традиционно романтический, и в "Полтаве" во многом как бы "сплавлены" черты романтизма и реализма. Образ Петра Пушкиным романтизирован: этот человек воспринимается как полубог, вершитель исторических судеб России. Вот как описано явление Петра на бранном поле: Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный глас Петра: Его зов - "глас свыше", то есть Божий глас. В его образе нет ничего от человека: царь-полубог. Сочетание ужасного и прекрасного в образе Петра подчеркивает его сверхчеловеческие черты: он и восхищает, и внушает ужас своим величием обычным людям. Уже одно его явление вдохновило войско, приблизило к победе. Прекрасен, гармоничен этот государь, победивший Карла и не возгордившийся удачей, умеющий так по-царски отнестись к своей победе: В шатре своем он угощает Своих вождей, вождей чужих, И славных пленников ласкает, И за учителей своих Заздравный кубок поднимает. Увлеченность Пушкина фигурой Петра очень важна: поэт стремится осознать и оценить роль этого выдающегося государственного деятеля в истории России. Мужество Петра, его страсть познавать самому и вводить в стране новое не могут не импонировать Пушкину. Но в 1833 году стихотворение Адама Мицкевича "Памятник Петра Великого" заставило Пушкина попытаться иначе взглянуть на проблему, пересмотреть свое отношение. И тогда он написал поэму "Медный Всадник". В "Полтаве" образ Петра как бы дробился: Лик его ужасен.Движенья быстры. Он прекрасен. В "Медном всаднике" лик Петра также величественен, в нем и мощь, и ум. Но исчезло движенье, ушла жизнь: перед нами лицо медного истукана, только страшного в своем величии: Ужасен он в окрестной мгле Необходимо было на исходе XVII века ввести Россию в ряд первых мировых держав. Но возможно ли ради этой цели жертвовать судьбой хотя бы такого маленького человека, как Евгений, его скромным простым счастьем, его рассудком? Оправдывает ли историческая необходимость такие жертвы? Пушкин в поэме лишь ставит вопрос, но верно поставленный вопрос и есть истинная задача художника, ибо на подобные вопросы должен ответить себе каждый человек.Высшая и истинная цель изучения истории состоит не в заучивании дат, событий и имен - это лишь первая ступень. Историю изучают, чтобы понять ее законы, разгадать какие-то сущностные черты характера народа. Идея, закономерности событий истории, их глубокой внутренней взаимосвязи пронизывает все творчество Пушкина. Попытаемся, анализируя творчество Пушкина, понять его историко-философскую концепцию.В раннем творчестве Пушкина нас очаровывают "Руслан и Людмила", "Песнь о Вещем Олеге". Древняя Русь времен князей Владимира и Олега воссоздается в красочных, полных жизни картинах. "Руслан и Людмила" - сказка, "Песнь о Вещем Олеге" - легенда. То есть, автор стремится осмыслить не саму историю, а ее мифы, легенды, сказания: понять, почему сохранила народная память эти сюжеты, стремится проникнуть в строй мыслей и языка предков, найти корни. Эта линия получит дальнейшее развитие в пушкинских сказках, а также во многих лирических и эпических произведениях, где через нравы, речь и характеры героев поэт подойдет к разгадке особенностей русского характера, принципов народной морали - и так будет постигать законы развития истории России.Реальные исторические фигуры, привлекавшие внимание Пушкина, обязательно находятся на переломе эпох: Петр I, Борис Годунов, Емельян Пугачев. Вероятно, в момент исторических переустройств как бы обнажаются "скрытые пружины" механизма истории, лучше видны причины и следствия - ведь в истории Пушкин стремится понять именно причинно-следственную взаимосвязь событий, отвергая фаталистическую точку зрения на развитие мира.Первым произведением, где читателю открылась концепция Пушкина, стала трагедия "Борис Годунов" - одно из высших достижений его гения. "Борис Годунов" - трагедия, так как в основе сюжета лежит ситуация национальной катастрофы. Литературоведы долго спорили о том, кто главные герой этой трагедии. Годунов? - но он умирает, а действие продолжается. Самозванец? - и он не занимает центрального места. В центре внимания автора не отдельные личности и не народ, а то, что со всеми ними происходит. То есть - история. Борис, совершивший страшный грех детоубийства, обречен. И никакая высокая цель, никакая забота о народе, ни даже муки совести не смоют этого греха, не остановят возмездия. Не меньший грех совершен и народом, позволившим Борису вступить на трон, более того, по наущению бояр, умолявшим: Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!Будь наш отец, наш царь! Умоляли, забыв о нравственных законах, по сути, глубоко равнодушные к тому, кто станет царем. Отказ Бориса от трона и мольбы бояр, народные молитвы, открывающие трагедию, подчеркнуто неестественны: автор все время акцентирует внимание на том, что перед нами сцены государственного спектакля, где Борис якобы не хочет царствовать, а народ и бояре якобы без него погибнут. И вот Пушкин как бы вводит нас в "массовку", играющую в этом спектакле роль народа. Вот какая-то баба: то укачивает младенца, чтоб не пищал, когда нужна тишина, то "бросает его обземь", чтоб заплакал: "Как надо плакать, Так и затих!" Вот мужики трут глаза луком и мажут слюнями: изображают слезы. И здесь нельзя не ответить с горечью, что это безразличие толпы к тому, что творится во дворце, очень характерно для России. Крепостное право приучило народ к тому, что от его воли ничего не зависит. В площадное действо "избрания царя" вовлечены люди, образующие не народ, а толпу. От толпы нельзя ждать благоговенья перед моральными принципами - она бездушна. Народ же - не скопище людей, народ - это каждый наедине со своей совестью. И гласом совести народной станут летописец Пимен и юродивый Николка - те, кто никогда не мешается с толпой. Летописец сознательно ограничил свою жизнь кельей: выключившись из мирской суеты, он видит то, что невидимо большинству. И он первым скажет о тяжелом грехе русского народа: О страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили: Владыкою себе цареубийцу Мы нарекли. И что самое главное - он, Пимен, не был на площади, не молил ":отец наш!" - и все же разделяет с народом вину, несет крест общего греха равнодушия. В образе Пимена проявляется одна из прекраснейших черт русского характера: совестливость, обостренное чувство личной ответственности. По мнению Пушкина, личность, реализуя свои замыслы, вступает во взаимодействие с объективными законами мира. Результат этого взаимодействия и творит историю. Получается, что личность действует и как объект, и как субъект истории. Особенно явно эта двойная роль проявляется в судьбах "самозванцев". Самозванец Григорий Отрепьев наперекор всему стремится изменить свою судьбу, удивительно отчетливо ощущает двойственность своего положения: он и безвестный чернец, силой собственной воли, смелости, превратившийся в таинственно спасенного царевича Дмитрия, и предмет политических игр: ":я предмет раздоров и войны", и орудие в руках судьбы. Другой пушкинский герой - самозванец Емельян Пугачев неслучайно соотносит себя с Отрепьевым: "Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою". Слова Пугачева "Улица моя тесна: воли мне мало" очень близки к стремлению Григория не просто вырваться из монастырской кельи, но вознестись на московский престол. И все же у Пугачева совершенно иная историческая миссия, чем у Григория: он стремится реализовать образ "народного царя". В "Капитанской дочке" Пушкин создает образ народного героя. Сильная личность, незаурядный человек, умный, широкий, умеющий быть добрым - как пошел он на массовые убийства, на бесконечную кровь? Во имя чего? - "Воли мне мало". Стремление Пугачева к абсолютной воле - исконно народная черта. Мысль, что абсолютно свободен только царь, движет Пугачевым: свободный народный царь и подданным принесет полную свободу. Трагедия в том, что герой романа ищет в царском дворце то, чего там нет. Более того, за свою волю он платит чужими жизнями, а значит, и конечная цель пути, и сам путь - ложны. Поэтому и гибнет Пугачев. "Капитанскую дочку" Пушкин создает как народную трагедию, и Пугачева он осмысливает как образ народного героя. И поэтому образ Пугачева постоянно соотносится с фольклорными образами. Его личность спорна, но как "народный царь" Пугачев безупречен. До сих пор я говорил о тех произведениях Пушкина, где история исследуется в момент перелома, смены эпох. Но историческое событие длится гораздо дольше этого момента: оно чем-то подготавливается изнутри, как бы назревает, затем свершается и длится столько, сколько продолжается его влияние на людей. В явности этого длительного влияния на судьбу людей мало что сравнится с петровскими переустройствами страны. И образ Петра I интересовал, увлекал Пушкина всю жизнь: поэт осмысливал его во многих произведениях. Попробуем сопоставить образы Петра из "Полтавы" и из "Медного всадника"."Полтава" написана в 1828 году, это первый опыт исторической поэмы у Пушкина. Жанр поэмы - традиционно романтический, и в "Полтаве" во многом как бы "сплавлены" черты романтизма и реализма. Образ Петра Пушкиным романтизирован: этот человек воспринимается как полубог, вершитель исторических судеб России. Вот как описано явление Петра на бранном поле: Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный глас Петра: Его зов - "глас свыше", то есть Божий глас. В его образе нет ничего от человека: царь-полубог. Сочетание ужасного и прекрасного в образе Петра подчеркивает его сверхчеловеческие черты: он и восхищает, и внушает ужас своим величием обычным людям. Уже одно его явление вдохновило войско, приблизило к победе. Прекрасен, гармоничен этот государь, победивший Карла и не возгордившийся удачей, умеющий так по-царски отнестись к своей победе: В шатре своем он угощает Своих вождей, вождей чужих, И славных пленников ласкает, И за учителей своих Заздравный кубок поднимает. Увлеченность Пушкина фигурой Петра очень важна: поэт стремится осознать и оценить роль этого выдающегося государственного деятеля в истории России. Мужество Петра, его страсть познавать самому и вводить в стране новое не могут не импонировать Пушкину. Но в 1833 году стихотворение Адама Мицкевича "Памятник Петра Великого" заставило Пушкина попытаться иначе взглянуть на проблему, пересмотреть свое отношение. И тогда он написал поэму "Медный Всадник". В "Полтаве" образ Петра как бы дробился: Лик его ужасен.Движенья быстры. Он прекрасен. В "Медном всаднике" лик Петра также величественен, в нем и мощь, и ум. Но исчезло движенье, ушла жизнь: перед нами лицо медного истукана, только страшного в своем величии: Ужасен он в окрестной мгле Необходимо было на исходе XVII века ввести Россию в ряд первых мировых держав. Но возможно ли ради этой цели жертвовать судьбой хотя бы такого маленького человека, как Евгений, его скромным простым счастьем, его рассудком? Оправдывает ли историческая необходимость такие жертвы? Пушкин в поэме лишь ставит вопрос, но верно поставленный вопрос и есть истинная задача художника, ибо на подобные вопросы должен ответить себе каждый человек.
Знаменитые слова Белинского об “энциклопедии русской жизни” можно отнести ко всему творчеству А. С. Пушкина. Белинскому вторит и А. Григорьев: “Пушкин - наше все”. Пушкин и тончайший лирик, и философ, и автор увлекательных романов, и учитель гуманизма, и историк. Для многих из нас интерес к истории начинается с чтения “Капитанской дочки” или “Арапа Петра Великого”. Гринев и Маша Миронова стали не только нашими спутниками и друзьями, но и нравственными ориентирами.
Так получилось, что мое знакомство с героями В. Скотта, самоотверженным Айвенго, отважным Квентином Дорвардом, благородным Робом Роем состоялось позже чтения Пушкина, и мне радостно было находить в них сходство с любимыми героями нашего гения. Но пушкинское наследие более многогранно в жанровом отношении. Не только ориентированные на историческое предание баллады и исторические романы (излюбленные жанры “шотландского чародея”) встречаем мы в творчестве нашего писателя. Исторической теме посвящены и поэмы (“Полтава”, “Медный всадник”), и драмы (“Борис Годунов”, “Пир во время чумы”, “Скупой рыцарь”, “Сцены из рыцарских времен”), и лирика (ода “Вольность”, сатирические “Сказки”, “Бородинская годовщина”). Пушкин выступил и как автор исторических исследований. Его перу принадлежат “История Пугачева”, “История Петра” и разнообразные исторические заметки. Интерес к истории у Пушкина был неизменным, но на различных этапах творческого пути историческая тема разрабатывалась им в разных жанрах и разных направлениях.
Под знаком романтизма проходит петербургский период и период южной ссылки. Произведения этой поры проникнуты чувством гордости за великий исторический путь России и романтическим культом великого человека.
Уже лицейское стихотворение “Воспоминания в Царском Селе”, отмеченное печатью сентименталистской и классицистической поэтики, представляет собой вдохновенный гимн России и ее военной славе. Здесь упоминаются “Орлов, Румянцев и Суворов, / Потомки грозные славян”, воспевается победа над Наполеоном (“И вспять бежит надменный галл”).
Классицистическая традиция в изображении исторических событий продолжается в оде “Вольность”, написанной в петербургский период. В этом произведении Пушкин как бы бросает взгляд на всю мировую историю:
Увы! куда ни брошу взор -
Везде бичи, везде железы.
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы...
“Гибельный позор” (то есть зрелище) трагической истории разных народов - следствие пренебрежения к нравственному “Закону”. “Печать проклятия” лежит на тиранах и на рабах. Восемнадцатилетний Пушкин дает завет потомкам:
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье.
Эта тема будет продолжена в “Капитанской дочке”, одном из последних произведений Пушкина. Автор не приемлет “русский бунт - бессмысленный и беспощадный”. В оде “Вольность” он одинаково порицает и бунт “галлов”, и заговорщиков, убивших Павла I, и тирана Калигулу, и всех “самовластительных злодеев”.
“Клии страшный глас” обогащается в лирике Пушкина и сатирическими оттенками. “Сказки” (“Ура! В Россию скачет...”) написаны, конечно, на злободневную тему, но на этом стихотворении лежит отсвет библейской истории. Пушкин высмеивает Александра I, “властителя слабого и лукавого”, его рождественские обещания России. Молодой поэт ставит проблему истинного человеческого величия, он рассматривает исторических деятелей через призму нравственного закона и гуманизма. Эта мысль получила дальнейшее развитие в “Войне и мире” Л. Н. Толстого.
Но Пушкин-романтик все-таки называет Наполеона “великим человеком” (стихотворение “Наполеон”), упоминает о нем в стихотворении “К морю”:
Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Совсем по-другому звучит тема Наполеона в седьмой главе “Евгения Онегина”. “Петровский замок” назван не “гробницей славы”, а “свидетелем падшей славы”. Наполеон предстает перед нами самодовольным, “счастьем упоенным”, “нетерпеливым героем”, который только начинает осознавать, что вовсе не цари и полководцы изменяют ход истории. Не эти ли строчки “Евгения Онегина” послужили основой знаменитого эпизода в “Войне и мире”, когда Наполеон так и не дождался делегации жителей Москвы на Поклонной горе?
Гроза двенадцатого года
Настала - кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
На этот вопрос как бы отвечает в “Войне и мире” Л. Толстой, хотя в его времена десятая глава пушкинского романа еще не была известна. И в самом названии великой книги Толстого нельзя не увидеть перекличку со словами пушкинского летописца Пимена из “Бориса Годунова”. Передавая свой труд Григорию Отрепьеву, он напутствует преемника:
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса...
Именно в “Борисе Годунове” впервые у Пушкина историческая тема представлена в реалистическом ключе. Первая русская реалистическая трагедия, написанная в 1825 году, заканчивается знаменитой ремаркой: “Народ безмолвствует”. Все персонажи оцениваются в трагедии с точки зрения народа. В этом Пушкин продолжает традиции Шекспира, что и подчеркивается даже строением стиха. Как и в шекспировских трагедиях, в “Борисе Годунове” используется белый пятистопный ямб, имеются также и прозаические вставки.
Историческая тема разрабатывается Пушкиным и в других драматических произведениях. Однако не летопись и не события русской истории послужили основой для знаменитых маленьких трагедий. В них использованы предания и традиционные западноевропейские сюжеты. Историческая основа интересует Пушкина прежде всего своей психологической стороной. Так, психологически возможным считал он отравление Моцарта его другом Сальери. Маленькие трагедии на примерах из истории доказывают, что “гений и злодейство две вещи несовместные”.
Это только кажется, что летописные и легендарные сюжеты Пушкин разрабатывает подчеркнуто бесстрастно. Рассмотрим “Песнь о вещем Олеге”. Почему погибает князь, такой могущественный и уверенный в себе? По канонам романтического жанра баллады (“Песнь о вещем Олеге” написана в 1822 году Пушкиным-романтиком) герой погибает в трагической схватке с судьбой, роком. Но в этом произведении можно увидеть и будущего Пушкина-реалиста, не боявшегося “могучих владык”, потому что не они вершат историю, а народ, чьим “эхом” был “неподкупный голос” поэта.
Одним из самых сложных неоднозначных образов в произведениях Пушкина, посвященных историко-психологической теме, является образ Петра I. Это, безусловно, самая главная фигура в галерее “владык”, “венцов” и “тронов” в пушкинском творчестве. Петр I является одним из центральных героев поэмы “Полтава”. Возвеличивая Петра I, рассказывая о героических событиях русской истории, Пушкин не забывает, однако, о моральном, гуманном аспекте исторической темы. Жертвой истории оказывается несчастная Мария Кочубей.
Романтическая приподнятость в ту пору соединялась в творчестве Пушкина с реалистическим бытописанием.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят.
Так, в другом, уже прозаическом произведении Пушкина (“Арап Петра Великого”), его первом историческом романе, Петр I не только “то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник”, как в “Стансах”, но и заботливый друг, великодушный человек, идеал монарха и семьянина. К сожалению, роман не был закончен, тема Петра в этом освещении не получила дальнейшего развития. Но в 1833 году она нашла свое продолжение в новом стихотворном произведении. Это самая загадочная поэма Пушкина, которая называется не по имени Петра и не по топониму, как “Полтава”, а перифразой. Это поэма “Медный всадник”. Вспоминаются еще два таких названия произведений Пушкина, сходных и по сюжету. Кульминационным моментом в них является оживление статуи (статуэтки), отнимающей возлюбленную у героя. В “Медном всаднике”, “Каменном госте” и “Сказке о золотом петушке” действие происходит в реальной (Петербург, “Мадрид”) или вымышленной столице. Герой, бросивший вызов загадочной стихии или мистической силе, погибает. Создавая “Медного всадника”, Пушкин основывался на нескольких преданиях о тени Петра I, являющейся в Петербурге то Павлу I, то А. Голицыну. Жители Петербурга, верившие этим легендам, считали, что ничто не угрожает их городу, пока в нем стоит памятник Петру. Тема Петра переходит в тему российской государственности, и обращение к истории как бы высвечивает будущее России.
Апокалиптическая картина наводнения и гибнущего “Петрополя” служит предупреждением потомкам. Петр I, сотворивший Петербург, как библейский Бог (недаром во вступлении к поэме местоимение “Он”, отнесенное к государю, написано с большой буквы, как в Библии), “Россию поднял на дыбы”. Показывая конфликт государства и личности, Пушкин завершает поэму вопросом:
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Впоследствии символом исторического пути России в “Мертвых душах” Н. В. Гоголя станет фантастический полет тройки коней, традиция будет продолжена А. Блоком в цикле “На поле Куликовом”.
Итогом размышлений Пушкина над историей, ролью личности и народа в ней, нравственным смыслом исторических событий стала главная, на мой взгляд, книга Пушкина, работа над которой была завершена в 1836 году. “Капитанская дочка” вышла в свет за месяц до смерти автора. Своеобразие пушкинской исторической прозы недооценили современники. По мнению Белинского, в “Капитанской дочке” изображены “нравы русского общества в царствование Екатерины”, характер же Гринева критик называет “ничтожным, бесцветным”. Подобные упреки в слабой разработке характера главного героя английские читатели высказывали В. Скотту. Айвенго, например, не сражается ни в рядах храбрых йоменов Локсли (Робина Гуда), ни в рядах феодалов, защитников замка. Не принимая ни ту, ни другую сторону, он занят спасением прекрасной Ревекки. Айвенго и Гринев, как говорит знаменитый литературовед Ю. Лотман, находят единственно правильный путь, приподнимаются над “жестоким веком”, сохраняя гуманность, человеческое достоинство и любовь к человеку, независимо от принадлежности его к той или иной политической группировке. Даже в “исторической метели” Гринев не позволил себе сбиться с дороги, не предал в себе человечность. На примере ужасов пугачевщины Пушкин показывает, что “лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений”.
В своей “Истории Пугачева” Пушкин не скрывал ни злодеяний пугачевцев, ни жестокости правительственных войск. А в “Капитанской дочке” образ Пугачева поэтичен, и многие критики, подобно Марине Цветаевой (статья “Пушкин и Пугачев”), считали, что Пугачев нравственно выше Гринева. Но Пугачев потому и рассказывает Гриневу “калмыцкую сказку” об орле и вороне, что хочет прельстить своего собеседника “пиитическим ужасом”. У Гринева же свое отношение к кровавым событиям, выраженное в его словах: “Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести”.
Не “бесцветным”, а по-христиански стойким и самоотверженным предстает перед нами любимый герой Пушкина, хотя его “записки” о “бестолковщине времени и простом величии простых людей” (Гоголь) простодушны и бесхитростны.
В сущности, пушкинский подход к истории - это и подход к современности. Великий гуманист, он противопоставляет “живую жизнь” политической борьбе. Так, лицейские друзья всегда оставались для него друзьями, “в заботах... царской службы” и “в мрачных пропастях земли”, где томились декабристы.
В своей речи о Пушкине Достоевский сказал, что автор “Капитанской дочки” видел в нашей истории, в наших даровитых людях залог “общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону”. Мысль историческая, “мысль народная” в пушкинском творчестве - это мысль, обращенная в будущее.
Хочется сказать еще и о том, что поэзия истории для Пушкина была поэзией нравственного величия, поэзией высоты человеческого духа. Вот почему историческая тема в творчестве Пушкина тесно соединяется с нравственно-психологической. Этот ракурс в освещении исторических событий стал главным и для Лермонтова, Некрасова, Льва Толстого, А. К. Толстого, автора “Князя Серебряного”. Традиции Пушкина-историка продолжили в XX веке такие разные писатели, как Твардовский, Шолохов, А. Н. Толстой.
Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина.
Высшая и истинная цель изучения истории состоит не в заучивании дат, событий и имен - это лишь первая ступень. Историю изучают, чтобы понять ее законы, разгадать какие-то сущностные черты характера народа. Идея, закономерности событий истории, их глубокой внутренней взаимосвязи пронизывает все творчество Пушкина. Попытаемся, анализируя творчество Пушкина, понять его историко-философскую концепцию.В раннем творчестве Пушкина нас очаровывают "Руслан и Людмила", "Песнь о Вещем Олеге". Древняя Русь времен князей Владимира и Олега воссоздается в красочных, полных жизни картинах. "Руслан и Людмила" - сказка, "Песнь о Вещем Олеге" - легенда. То есть, автор стремится осмыслить не саму историю, а ее мифы, легенды, сказания: понять, почему сохранила народная память эти сюжеты, стремится проникнуть в строй мыслей и языка предков, найти корни. Эта линия получит дальнейшее развитие в пушкинских сказках, а также во многих лирических и эпических произведениях, где через нравы, речь и характеры героев поэт подойдет к разгадке особенностей русского характера, принципов народной морали - и так будет постигать законы развития истории России.Реальные исторические фигуры, привлекавшие внимание Пушкина, обязательно находятся на переломе эпох: Петр I, Борис Годунов, Емельян Пугачев. Вероятно, в момент исторических переустройств как бы обнажаются "скрытые пружины" механизма истории, лучше видны причины и следствия - ведь в истории Пушкин стремится понять именно причинно-следственную взаимосвязь событий, отвергая фаталистическую точку зрения на развитие мира.Первым произведением, где читателю открылась концепция Пушкина, стала трагедия "Борис Годунов" - одно из высших достижений его гения. "Борис Годунов" - трагедия, так как в основе сюжета лежит ситуация национальной катастрофы. Литературоведы долго спорили о том, кто главные герой этой трагедии. Годунов? - но он умирает, а действие продолжается. Самозванец? - и он не занимает центрального места. В центре внимания автора не отдельные личности и не народ, а то, что со всеми ними происходит. То есть - история.Борис, совершивший страшный грех детоубийства, обречен. И никакая высокая цель, никакая забота о народе, ни даже муки совести не смоют этого греха, не остановят возмездия. Не меньший грех совершен и народом, позволившим Борису вступить на трон, более того, по наущению бояр, умолявшим:Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!Будь наш отец, наш царь! Умоляли, забыв о нравственных законах, по сути, глубоко равнодушные к тому, кто станет царем. Отказ Бориса от трона и мольбы бояр, народные молитвы, открывающие трагедию, подчеркнуто неестественны: автор все время акцентирует внимание на том, что перед нами сцены государственного спектакля, где Борис якобы не хочет царствовать, а народ и бояре якобы без него погибнут. И вот Пушкин как бы вводит нас в "массовку", играющую в этом спектакле роль народа. Вот какая-то баба: то укачивает младенца, чтоб не пищал, когда нужна тишина, то "бросает его обземь", чтоб заплакал: "Как надо плакать, Так и затих!" Вот мужики трут глаза луком и мажут слюнями: изображают слезы. И здесь нельзя не ответить с горечью, что это безразличие толпы к тому, что творится во дворце, очень характерно для России. Крепостное право приучило народ к тому, что от его воли ничего не зависит. В площадное действо "избрания царя" вовлечены люди, образующие не народ, а толпу. От толпы нельзя ждать благоговенья перед моральными принципами - она бездушна. Народ же - не скопище людей, народ - это каждый наедине со своей совестью. И гласом совести народной станут летописец Пимен и юродивый Николка - те, кто никогда не мешается с толпой. Летописец сознательно ограничил свою жизнь кельей: выключившись из мирской суеты, он видит то, что невидимо большинству. И он первым скажет о тяжелом грехе русского народа:О страшное, невиданное горе!Прогневали мы Бога, согрешили:Владыкою себе цареубийцуМы нарекли.И что самое главное - он, Пимен, не был на площади, не молил ":отец наш!" - и все же разделяет с народом вину, несет крест общего греха равнодушия. В образе Пимена проявляется одна из прекраснейших черт русского характера: совестливость, обостренное чувство личной ответственности.По мнению Пушкина, личность, реализуя свои замыслы, вступает во взаимодействие с объективными законами мира. Результат этого взаимодействия и творит историю. Получается, что личность действует и как объект, и как субъект истории. Особенно явно эта двойная роль проявляется в судьбах "самозванцев". Самозванец Григорий Отрепьев наперекор всему стремится изменить свою судьбу, удивительно отчетливо ощущает двойственность своего положения: он и безвестный чернец, силой собственной воли, смелости, превратившийся в таинственно спасенного царевича Дмитрия, и предмет политических игр: ":я предмет раздоров и войны", и орудие в руках судьбы.Другой пушкинский герой - самозванец Емельян Пугачев неслучайно соотносит себя с Отрепьевым: "Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою". Слова Пугачева "Улица моя тесна: воли мне мало" очень близки к стремлению Григория не просто вырваться из монастырской кельи, но вознестись на московский престол. И все же у Пугачева совершенно иная историческая миссия, чем у Григория: он стремится реализовать образ "народного царя". В "Капитанской дочке" Пушкин создает образ народного героя. Сильная личность, незаурядный человек, умный, широкий, умеющий быть добрым - как пошел он на массовые убийства, на бесконечную кровь? Во имя чего? - "Воли мне мало". Стремление Пугачева к абсолютной воле - исконно народная черта. Мысль, что абсолютно свободен только царь, движет Пугачевым: свободный народный царь и подданным принесет полную свободу. Трагедия в том, что герой романа ищет в царском дворце то, чего там нет. Более того, за свою волю он платит чужими жизнями, а значит, и конечная цель пути, и сам путь - ложны. Поэтому и гибнет Пугачев. "Капитанскую дочку" Пушкин создает как народную трагедию, и Пугачева он осмысливает как образ народного героя. И поэтому образ Пугачева постоянно соотносится с фольклорными образами. Его личность спорна, но как "народный царь" Пугачев безупречен.До сих пор я говорил о тех произведениях Пушкина, где история исследуется в момент перелома, смены эпох. Но историческое событие длится гораздо дольше этого момента: оно чем-то подготавливается изнутри, как бы назревает, затем свершается и длится столько, сколько продолжается его влияние на людей. В явности этого длительного влияния на судьбу людей мало что сравнится с петровскими переустройствами страны. И образ Петра I интересовал, увлекал Пушкина всю жизнь: поэт осмысливал его во многих произведениях. Попробуем сопоставить образы Петра из "Полтавы" и из "Медного всадника"."Полтава" написана в 1828 году, это первый опыт исторической поэмы у Пушкина. Жанр поэмы - традиционно романтический, и в "Полтаве" во многом как бы "сплавлены" черты романтизма и реализма. Образ Петра Пушкиным романтизирован: этот человек воспринимается как полубог, вершитель исторических судеб России. Вот как описано явление Петра на бранном поле:Тогда-то свыше вдохновенныйРаздался звучный глас Петра:Его зов - "глас свыше", то есть Божий глас. В его образе нет ничего от человека: царь-полубог. Сочетание ужасного и прекрасного в образе Петра подчеркивает его сверхчеловеческие черты: он и восхищает, и внушает ужас своим величием обычным людям. Уже одно его явление вдохновило войско, приблизило к победе. Прекрасен, гармоничен этот государь, победивший Карла и не возгордившийся удачей, умеющий так по-царски отнестись к своей победе:В шатре своем он угощаетСвоих вождей, вождей чужих,И славных пленников ласкает,И за учителей своихЗаздравный кубок поднимает.Увлеченность Пушкина фигурой Петра очень важна: поэт стремится осознать и оценить роль этого выдающегося государственного деятеля в истории России. Мужество Петра, его страсть познавать самому и вводить в стране новое не могут не импонировать Пушкину. Но в 1833 году стихотворение Адама Мицкевича "Памятник Петра Великого" заставило Пушкина попытаться иначе взглянуть на проблему, пересмотреть свое отношение. И тогда он написал поэму "Медный Всадник". В "Полтаве" образ Петра как бы дробился:Лик его ужасен.Движенья быстры. Он прекрасен. В "Медном всаднике" лик Петра также величественен, в нем и мощь, и ум. Но исчезло движенье, ушла жизнь: перед нами лицо медного истукана, только страшного в своем величии:Ужасен он в окрестной мглеНеобходимо было на исходе XVII века ввести Россию в ряд первых мировых держав. Но возможно ли ради этой цели жертвовать судьбой хотя бы такого маленького человека, как Евгений, его скромным простым счастьем, его рассудком? Оправдывает ли историческая необходимость такие жертвы? Пушкин в поэме лишь ставит вопрос, но верно поставленный вопрос и есть истинная задача художника, ибо на подобные вопросы должен ответить себе каждый человек.
180 лет назад, 10 февраля 1837 года, скончался Александр Пушкин. О великом поэте написаны тысячи книг, а изучение его творчества синонимично отечественной филологии в целом. По просьбе «Горького» Алина Бодрова рассказывает об основных вехах в развитии пушкинистики.
В давней статье о рукописях Пушкина известный текстолог Сергей Бонди заметил, что «пушкинская текстология сделалась представительницей русской текстологии вообще», но это замечание верно, пожалуй, и для всей отечественной филологической науки в целом. Применительно к изучению литературы нового времени пушкинистика, или «наука о Пушкине», до сих пор остается самой разработанной областью. Чтобы впечатлиться количеством, объемом и масштабом пушкиноведческих работ, достаточно заглянуть в неполный перечень специальных указателей с однообразными заглавиями «Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем» - библиографические списки изданий, книг и статей только за период 1886–1957 годов занимают одиннадцать объемистых томов!
Выбирать из этого многообразия даже самые значительные работы, привнесшие в представления о Пушкине и его творчестве новый взгляд или новое измерение, - дело исключительно неблагодарное, но мы попробуем обозначить основные вехи.
Открытие биографии: Анненков и Бартенев
Историю научного освоения и издания Пушкина традиционно начинают с 1850-х годов, когда «золотой век русской поэзии» и пушкинское творчество были осознаны как историческая эпоха, требующая специального изучения и целенаправленных разысканий, а биография поэта стала рассматриваться как важнейший ключ к осмыслению его сочинений. Первые масштабные биографические разыскания о Пушкине предпринял в самом начале 1850-х годов будущий основатель журнала «Русский архив», а тогда молодой историк Петр Бартенев : он записал рассказы о Пушкине его друзей и родственников - эти тексты и по сей день не утратили ценности.
В то же самое время литератор и критик Павел Анненков , поддавшись на уговоры брата и друзей, согласился принять на себя дело издания сочинений Пушкина, которые он снабдил первой подробной биографией. Составленные Анненковым «Материалы к биографии А. С. Пушкина» , основанные на мемуарах современников и огромной работе с письмами и черновыми рукописями поэта, давали совершенно новый взгляд на личность Пушкина. И хотя Анненков уверял, что представляемые публике материалы «передают только в слабом очерке внутреннюю и внешнюю жизнь поэта», а «настоящая, полная жизнь его заключается в самых его произведениях», сами его материалы свидетельствовали об обратном - о несомненной ценности историко-биографических разысканий для реконструкции облика поэта.
Расширение корпуса, изучение рукописей и биографических фактов:
путь к Пушкинскому Дому
Оба намеченных изданием Анненкова пути (работа с рукописями, поиск неопубликованных текстов Пушкина, с одной стороны, и уточнение биографических и фактических сведений - с другой) определили основные направления пушкинских штудий второй половины XIX века вплоть до первого большого юбилея (1899 год) и предреволюционных лет.
Новонайденные и новопрочитанные тексты Пушкина и варианты к ним неутомимо вводили в научный оборот Петр Ефремов , Леонид Майков , Петр Морозов - редакторы и комментаторы наиболее известных и авторитетных собраний сочинений Пушкина 1880-х–1900-х годов. В понимании масштаба неопубликованного творческого наследия Пушкина огромную роль сыграло опубликованное Вячеславом Якушкиным описание пушкинских рукописей, хранившихся в Румянцевском музее в Москве.
Символическим итогом этих многолетних кропотливых разысканий и одновременно выходом на новый уровень фактического изучения Пушкина и его эпохи стало образование в 1905 году «Дома Пушкина» - музея, хранилища рукописей, книг поэта, который с 1907 года и по сей день носит имя Пушкинского Дома. В те же годы один из основателей Пушкинского Дома Борис Модзалевский приобрел у потомков Пушкина его библиотеку и составил ее каталог , без обращения к которому и до сих немыслимо ни одно серьезное пушкиноведческое исследование.
Биографические итоги: «Труды и дни» или «Курил ли Пушкин?»
От изучения рукописей и текстов не отставала и разработка биографических сюжетов, которые на рубеже веков были суммированы в первом «летописном» опыте изучения жизни и творчества - книге «А. С. Пушкин. Труды и дни» (первое издание – 1903 год), составленной Николаем Лернером . В глазах следующих поколений исследователей работы Лернера стали воплощением «ползучего эмпиризма», изучения биографических подробностей (вроде «Курил ли Пушкин?») ради них же самих, хотя, например, историко-литературные комментарии Лернера к изданию Пушкина под редакций Семена Венгерова вовсе не сводились к одним лишь биографическим интерпретациям.
«Формальный поворот»
Методологическую революцию в изучении текстов Пушкина, как и во всей филологической науке, справедливо связывают с рождением и становлением «формального метода» в 1910-е - начале 1920-х годов, однако «формальный поворот» в пушкинских штудиях начался не в работах главных лиц русского формализма. Возможности и перспективы формального изучения стиха Пушкина, особенностей его ритмики - на фоне других русских поэтов - были показаны еще в известной книге Андрея Белого «Символизм» (1910), положившей начало русскому стиховедению, а первые опыты квантитативного анализа пушкинской прозы были предприняты Михаилом Лопатто , одним из участников знаменитого Пушкинского семинария Семена Венгерова, откуда вышли как главные лица русского формализма, так и пушкинисты-текстологи.
Юрий Тынянов и его концепция пушкинского творчества
Новый взгляд на искусство как прием и на литературу как особую систему, подчиняющуюся своим имманентным законам - законам литературной эволюции, сложным образом соотносимым с соседними, внелитературными рядами, - позволил формалистам и прежде всего Юрию Тынянову сформулировать новую историко-литературную концепцию творчества Пушкина и всей культурной жизни первой трети XIX века. Согласно Тынянову , определяющим сюжетом этой эпохи было не столкновение «классиков» и «романтиков», не конфликт политических ретроградов и прогрессивных сил, но собственно литературная борьба между архаистами, которые ориентировались на высокую литературную традицию XVIII века, не боялись ни устаревшей героики, ни стилистической какофонии, и «новаторами»-карамзинистами, которые выступали за средние жанры, стилистическую сглаженность и установку на современную устную речь. По мысли Тынянова, Пушкин начал как карамзинист, затем осознал литературную значимость установок архаистов и, хотя полемизировал с ними по ряду вопросов, в итоге строил свой зрелый поэтический стиль на синтезе достижений противоборствующих направлений. В то же время поэтическую эволюцию Пушкина Тынянов описывал как поиск новых приемов и средств преодоления жанровых и стилистических ограничений сложившейся поэтической системы, работу с материалом и формами его организации.
Новое в компаративистике: «Байрон и Пушкин» Виктора Жирмунского
«Внутрилитературная» установка, внимание к проблемам жанра, сюжета, стиля предопределили также и существенный поворот в изучении литературных связей Пушкина и принципов его работы с иноязычными источниками. После книги Виктора Жирмунского «Байрон и Пушкин» (1924), в которой на многочисленных примерах было убедительно показано, как байроновские принципы построения сюжета, описаний, характеристик последовательно отразились в текстах южных поэм Пушкина, стало невозможно говорить о проблеме литературных влияний или взаимодействий без опоры на конкретные текстуальные сопоставления и анализ историко-литературной функции заимствований. И хотя впоследствии концепция Жирмунского была существенно уточнена (главным образом благодаря изучению непосредственного источника пушкинского знакомства с поэмами Байрона - их французских переводов), сами принципы его компаративистской работы по-прежнему значимы.
Утверждение социологизма и его советская эволюция
С другой стороны, в те же 1920-е годы активное развитие получают совершенно иные концепции литературного творчества, которое оказывается лишь проекцией других сущностей, факторов и сил. Предлагавшиеся концепции охватывали самый широкий спектр - от быстро ставшего маргинальным, а затем и вовсе запретным психоанализа (памятником этому направлению изучения Пушкина остаются «Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина» Ивана Ермакова (1923)) до набиравшей все большую силу марксистской социологии. Эволюцию классово-социологического подхода, колебавшегося вместе с линией партии и затем обогатившегося идеями народности и всемирной значимости русской литературы, хорошо можно наблюдать на примере работ Дмитрия Благого, проделавшего путь от «Социологии творчества Пушкина» (1929), где демонстрировалась диалектика социального бытия Пушкина как «дворянина во мещанстве», до двухтомной монографии «Творческий путь Пушкина» (1950; 1967), в которой был явлен «анализ художественных творений Пушкина в их литературном и общественном, национальном и всемирном значении».
«Текстологический поворот»: Пушкин как зеркало русской текстологии
Безусловно, крупнейшим достижением пушкинистики 1920-х–1930-х годов стала разработка текстологии как научной дисциплины, становление которой было тесно связано с необходимостью освоения того массива пушкинских рукописей, который стал доступен исследователям после революции и национализации архивов. Массовый ввод в научный оборот рукописей и цензурных документов, свидетельствовавших о сложной творческой истории ряда произведений Пушкина, заставлял по-новому ставить вопрос о том, как правильно печатать тексты, чтобы они в наибольшей мере соответствовали авторскому замыслу. В полемике о принципах выбора основного текста, заданной брошюрой Модеста Гофмана «Пушкин. Первая глава науки о Пушкине» (1922) приняли участие такие выдающиеся текстологи, как Борис Томашевский и Григорий Винокур . В результате победившая концепция, согласно которой научное издание должно давать «идеальный» текст, очищенный от ошибок, опечаток и потенциальных внешних вмешательств, на практике (в том числе в большом академическом издании Пушкина) часто приводила к появлению «сборного», контаминированного текста, автором которого оказывался не Пушкин, а редактор тома.
Однако установка на максимально полное изучение истории текста и хода творческой работы поэта позволила полностью прочесть и напечатать практически весь массив сохранивших пушкинских рукописей и предложить новую концепцию представления черновиков. Идея о том, что читателю нужен не набор разных зачеркнутых вариантов, а последовательность авторской работы, воплотилась в концепции текстологической сводки, обоснованной и примененной на практике Сергеем Бонди статьи об идейной структуре «Капитанской дочки» (1962), ее основная идея - о принципиальной важности для Пушкина общечеловеческого, а не классового - отчетливо полемична по отношению к устоявшимся интерпретациям. Работы Лотмана по анализу поэтического текста, в том числе на пушкинском материале, возвращали в научное поле изучение формальных экспериментов Пушкина, его работу над стилем и композицией. Благодаря интересу Лотмана к проблемам литературного поведения, взаимодействия писателя, литературы и читателя, предметом изучения стало бытовое поведение Пушкина, сложное соотношение его литературных установок и биографических поступков, принципы его взаимодействия с разными стратами читательской аудитории. Неоднократно переиздававшийся лотмановский